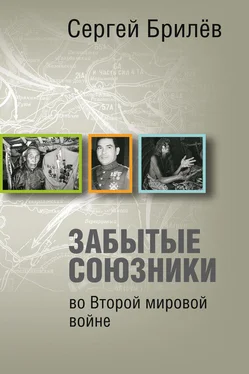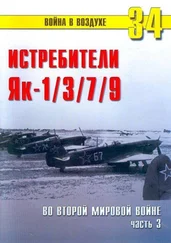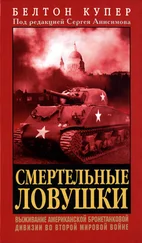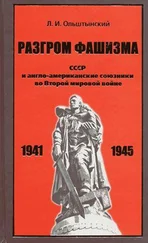Возможно, А. И. Сизоненко где-то что-то и преувеличивает. Но в данном случае важны не детали, а, как сейчас принято говорить, «тренд».
Такую же теплую встречу полпредам Страны Советов оказывали коммунисты и в других странах Латинской Америки.
А вот власть имущие чаще были настроены скептически. С одной стороны, они не знали, что, например, отправляя в Мексику следующего посла, Коллонтай, Сталин сказал ей «не поддаваться ложным представлениям о нарастающей революции, [а] укреплять дружеские отношения» {34} 34 La Nacion (Buenos Aires, Argentina), 25.06.1924.
. В принципе, куда уже более примирительный тон? Однако, строго говоря, содержание этой закрытой инструкции было «латинам» неведомо, и до поры до времени они о таком пацифизме советских «нигилистов» могли только догадываться.
Но, с другой стороны, в Латинской Америке читали вполне себе очевидное заявление наркома иностранных дел Г. В. Чичерина корреспонденту аргентинской газеты «Ла Насьон» о том, что «инициатива любой южноамериканской страны» по вопросу установления отношений с СССР «встретила бы с нашей стороны понимание и поддержку» {35} 35 Его биографические данные я привожу по: Наталья Гладышева. Уголок России в Парагвае // «Спецназ России», 2003 г.
. И тем не менее, в среде латиноамериканских власть имущих по отношению к СССР превалировал именно скептицизм. Почему? Как представляется, дело было не только в общем настрое, но и в деталях.
Особую роль в том, чтобы Латинская Америка прониклась трудно исправимым скетицизмом, сыграла такая вроде бы периферийная даже по тамошним меркам страна, как… Парагвай.
Где это?
Парагвай — это страна-загадка между Аргентиной, Боливией и Бразилией. Туда и сегодня добраться непросто.
Судя по тому, что и кого увидел там я, заселена эта страна исключительно интровертами. С другой стороны, бурная история этой удивительной южноамериканской республики свидетельствует о том, что я ошибаюсь: по идее, парагвайцы — редкие пассионарии.
Истина, как водится, — где-то посередине.
На самом деле, с точки зрения глобальной военно-политической истории, Парагвай — действительно никакая не периферия. Ещё на рубеже XIX–XX веков именно на территории Парагвая состоялись, минимум, две репетиции тех ужасов, которые всему миру ещё только предстояло пережить во Второй мировой. Собственно, именно парагвайский опыт и заставлял остальную Латинскую Америку быть потом столь осмотрительной.
По идее, эта парагвайская сага надолго отвлечёт нас от Кубы, которой, как я сам обещал, в этой главе уделяется первоочередное внимание. Тем не менее, я просто уверен, что и без парагвайских кружев здесь точно не обойтись. Да и, в конце концов, я же с самого начала оговорился, что «рассажу» в этой главе и многих других «пассажиров». А Латинская Америка — ещё как многолика [24] В разговоре с друзьями я обычно прибегаю к такому сравнению. Что есть европеец? Благо Европа к нам много ближе, мы понимаем, что, например, французы и финны — два совершенно разных народа. То есть про них мы готовы сказать, что и француз, и финн — европейцы, но они, конечно, очень разные. Поверьте на слово: и про Латинскую Америку можно сказать то же самое. С одной стороны, например, кубинец и парагваец — латиноамериканцы. В известной степени, они даже ближе, чем француз и финн: и Куба, и Парагвай — страны и испаноязычные, и католические. Но, на самом деле, это — два совершенно разных народа. В то же время, как и Европа, Латинская Америка периодически (и не очень успешно) пытается выработать общие подходы к глобальным проблемам. И в этой связи, не исход, но посыл — един. По этой причине рассказ о парагвайцах никак не прервёт логику повествования о Кубе.
.
Парагвайская «школа»
Про Вторую мировую войну часто говорят, что, в известной степени, она началась не с нападения Германии на Польшу, то есть не 1 сентября 1939 года, а много раньше.
В принципе, так оно и есть. Предтечей Второй мировой можно считать и японскую агрессию в Маньчжурии в Азии, и захват итальяцами Абиссинии в Африке.
Однако куда реже в России пишут о ещё одной «войне-репетиции»: о боливийско-парагвайском конфликте за обладание спорной пограничной территорией Чако.
По идее, та война 1932–1935 годов — действительно «из другой серии». Иной раз её даже несколько презрительно называют «филателистической»: в начале 1930-х годов в Парагвае действительно напечатали почтовую марку с картой, на которой спорная область Чако была отмечена как часть Парагвая, что и стало поводом для боливийско-парагвайского обострения.
Читать дальше