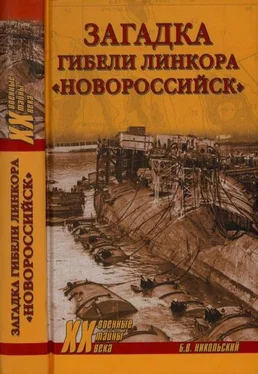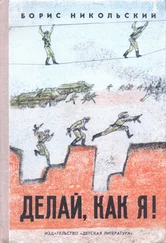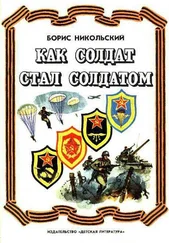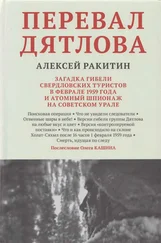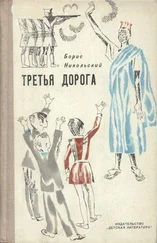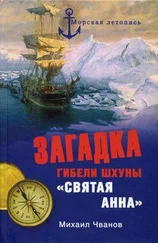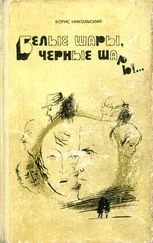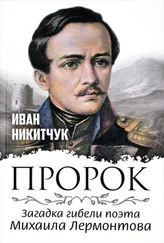Это условие в известной степени связывает, а точнее — дисциплинирует севастопольского исследователя при отработке источников, отражающих фактический уровень оценки повседневной и боевой организации на линкоре, по анализу действий в процессе развития катастрофы отдельных должностных лиц экипажа и представителей вышестоящих штабов и управлений. В этом отношении очень показателен эпизод, когда сын бывшего старшего помощника командира линкора Хуршудова пытался привлечь к судебной ответственности автора монографии «Тайна гибели линкора «Новороссийск» Бориса Каржавина, по мнению истца, «оскорбившего» память его отца.
С учетом выше отмеченной специфики и я вынужден жестко связывать основные фрагменты и этапы своего исследования с архивными документами и воспоминаниями участников событий. По этой же причине сам процесс исследования я согласую с пунктами выводов Правительственной комиссии. Мне неоднократно приходилось встречать людей, оценивавших информативную ценность исследования по выводам или содержанию последних страниц. Должно быть, в таком принципе «выборочного» чтения заложен вполне определенный смысл. Еще в большей степени этот принцип применим узкопрофильными специалистами, нацеленными на работу с определенным кругом источников информации. Но даже и в этом случае не обходится без своих «специфических» крайностей. Так, специалисты по отдельным разделам истории флота, чтобы не пропустить, казалось бы, самой незначительной информации, обречены «пропускать» через себя весь вал информации по интересующей их теме.
Кстати, о самих выводах. Я был откровенно удивлен и несколько озадачен информацией, опубликованной Трудославом Гореликом в 1–2 номерах «Морского альманаха» за 2012 год, где автор в своей интерпретации довел до читателей «Окончательный Протокол Правительственной комиссии заместителя Председателя Совета Министров СССР В.А. Малышева по катастрофе на внутреннем рейде Севастополя в октябре 1955 года». По утверждению Горелика, этот документ с грифом «Совершенно секретно» и с пометкой «Особой важности» был доведен до «узкого» круга ответственных работников судостроительной и судоремонтной промышленности только весной 1957 года. Даже принимая во внимание те сложные взаимоотношения, что существовали в ту пору между отдельными министрами и их министерствами, надо полагать, что этот документ был доведен и до командования Военноморского флота.
Такие документы, даже по прошествии десятков лет, очень редко снижают гриф своей «секретности». Как показательный аналог для сравнения — материалы о расстреле пленных польских офицеров в лагерях НКВД в 1940 году. О причинах издания и с содержанием «нашего» документа, в изложении автора, мы подробно ознакомимся на одном из этапов исследования.
Что же касается признаков или откровенных следов исправлений и корректур исходного, или первоначального, варианта материалов работы Правительственной комиссии, то с этими фактами мы неоднократно будем встречаться в процессе нашего исследования. Первым на эти факты обратил внимание Борис Коржавин, работая с одним из экземпляров названных материалов. По методологии и стилю изложения большинства пунктов в выводах Комиссии угадывается «рука» адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. Его же, до мелочей знакомый, стиль оформления многочисленных приказов и наставлений прослеживается в последующих корректурах выводов и отдельных разделов материалов работы Комиссии. С одной стороны — это вполне естественно, — Сергей Георгиевич среди членов правительственной комиссии являлся самым грамотным и авторитетным специалистом-моряком… С другой стороны — для Горшкова было крайне нежелательны объективные выводы о причинах взрыва… Не в меньшей мере Сергей Георгиевич не был заинтересован в расследовании ряда организационных причин, в той или иной мере усугубивших ситуацию на аварийном линкоре… По обычной, бытовой логике, Горшков, передавший Пархоменко командование Черноморским флотом накануне трагедии с «Новороссийском», не должен был участвовать в составе комиссии по расследованию причин катастрофы с линкором. По анализу ранее проводимых комиссий такого уровня в этой роли должен был выступить начальник Главного штаба ВМФ адмирал Фокин.
Для начала следует обратить внимание на первую же строку в выводах: «Можно считать твердо установленным следующее…» С учетом того, что в ближайшие за катастрофой тридцать лет адмирал Горшков оставался главкомом ВМФ, уже только эта одна фраза по определению исключала какие- либо сомнения в верности выводов, сделанных комиссией.
Читать дальше