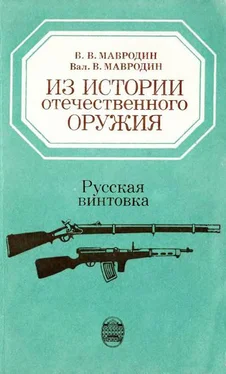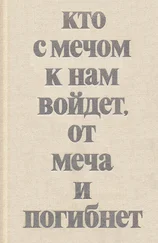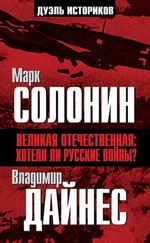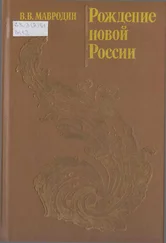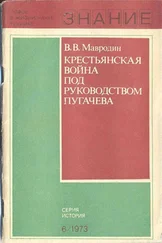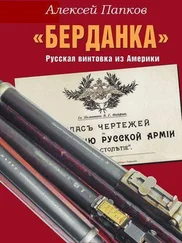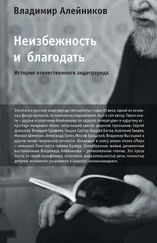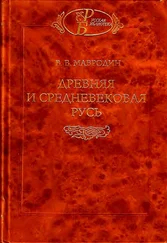Только 6 сентября 1854 г. последовало «высочайшее повеление» довести число нарезных ружей до 24, я в январе 1855 г. — до 26 на роту [110] ПСЗ, т. XXIX (от 6.Х.1854 г., № 28604); т. XXX (от 21/V 1855 г., № 28964).
. По состоянию на 17 февраля 1856 г. в крымской армии на вооружении находилось: 1) нарезных ружей — 19 376 = 13,4 %; 2) гладкоствольных капсюльных — 115 963 = 80,1 %; 3) гладкоствольных кремневых [111] Кремневые ружья состояли лишь на вооружении дружин.
— 9281 = 6,5 %.
Если к началу войны лишь 4–5% русских солдат имели нарезные ружья, то даже горький опыт Альмы и Балаклавы, Инкермана и Черной речки, редутов, бастионов и люнетов Севастополя, стоивших стольких жизней русским солдатам, павших от огня нарезных ружей противника, смог повысить процент нарезного оружия в русских войсках, действовавших в Крыму лишь до 13,4 % [112] Смычников А. А., Мавродин Вал. В. , К вопросу o перевооружении…, с. 240–241.
.
В Крымскую войну царизм потерпел жесточайшее поражение. В. И. Ленин писал: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России» [113] Ленин В. И. , Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.
. И то обстоятельство, что несмотря на явное преимущество своего стрелкового вооружения, на трехкратное численное превосходство своих войск, на подавляющее превосходство в артиллерии и боеприпасах и господство на море «Англия и Франция вместе возились целый год со взятием одного Севастополя» [114] Там же, т. 9, с. 153.
, объясняется стойкостью, мужеством и героизмом солдат, матросов и офицеров, полководческим искусством Корнилова и Нахимова, Истомина и Тотлебена.
Крымская война показала необходимость перевооружения русской армии стрелковым оружием и коренных преобразований в армии вообще. Россия становилась на путь буржуазных реформ, которые связаны с именем прогрессивного военного деятеля военного министра Д. A. Милютина.
В области оружейной мысли послевоенные годы характеризуются становлением и развитием теории стрелкового оружия. На смену поискам, не всегда озаренным теоретической мыслью, опытом, работам на ощупь, экспериментам, приходила теория стрелкового оружия, Раньше, в 20-30-е и в начале 40-х годов, теория отставала от эксперимента, не были выработаны принципы конструирования стрелкового оружия. Отсюда пестрота и многообразие стрелкового оружия, появление наряду с рациональным и причудливых и фантастических конструкций, отсутствие четкого представления о требованиях, предъявляемых развитием технической мысли и техники производства, отсутствие стандартов и эталонов. Лишь постепенно выработались определенные общие понятия о принципах конструирования современного стрелкового оружия, о требованиях, которым они должны отвечать. Огромное значение имел и уровень развития промышленного производства в России, возможности ее оружейных заводов (Тульского, Сестрорецкого и Ижевского), пороховых (Охтинского, Шостенского и Казанского) и их капсюльного производства.
Стрелковое вооружение зависело от уровня развития техники. От конструкторской мысли до ее осуществления пролегал огромный и сложный путь, на котором как неодолимое препятствие стояла техника и технология производства. Идеи нередко опережали технические возможности своего времени. Это наиболее ярко проявлялось на примере казнозарядной системы Паули с ее унитарными патронами.
До Крымской войны развитие оружейной мысли в России было связано с именами Глинки-Маврина, Рамзая, Житинского, Куликовского, Гартунга, Поппе, Эрнрота и др.
Послевоенные годы характеризуются развитием теории стрелкового оружия. Конечно, теоретические вопросы разрабатывались русскими оружейниками и ранее, но это были первые поиски и не больше. Надо было решать сразу несколько проблем: найти наиболее совершенную и простую систему стрелкового оружия, а также возможность скорейшего налаживания массового производства в России и сообразовать все это с финансовыми источниками.
Теория стрелкового оружия в значительной мере обязана трудам и деятельности выдавшегося русского теоретика-оружейника В. Л. Чебышева. Он совместно с другим известным оружейником В. Н. Бестужевым-Рюминым с 1861 г. издавал «Оружейный сборник», являвшийся важнейшим научным периодическим изданием русских оружейников. Перу В. Л. Чебышева принадлежит более сотни печатных работ, имевших очень большое значение в области теории оружия. Работы его стали печататься, начиная с середины 50-х годов.
В. Л. Чебышев не был одинок. В конце 50-х — начале 60-х годов появляются теоретические труды других крупных русских оружейников — В. Шкларевича, А. Вельяминова-3ернова, Н. Эгерштрома, В. Экстена, А. Горлова, Н. Бильдерлинга, В. Буняковского, К. Вольдта, Н. Потоцкого, Островерхова, Ларионова. Вильгельм фон Пленниес, крупнейший немецкий теоретик-оружейник, которого очень высоко ценил В. Л. Чебышев, посетивший Петербург в 1857 г., отмечал колоссальное богатство петербургских собраний ручного огнестрельного оружия и прежде всего коллекции Комитета об улучшении штуцеров и ружей. Он подчеркивал, что «едва ли существует в Европе другой подобного рода центральный военный склад». И именно в Петербурге Пленниес «имел возможность весьма существенно пополнить свои технические познания», а «опыты, произведенные в России в области испытания ручного оружия, являются лучшим основанием для заключения о практических достоинствах испытанных образцов» [115] Пленниес В. фон , Новые исследования над нарезным пехотным огнестрельным оружием, СПб., 1863, с. VI, 68, 92.
.
Читать дальше