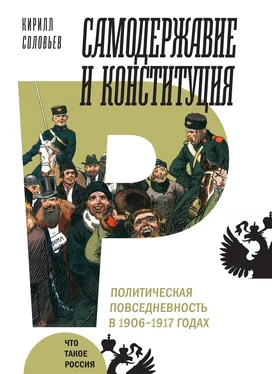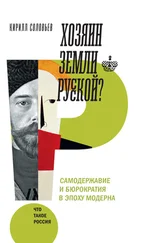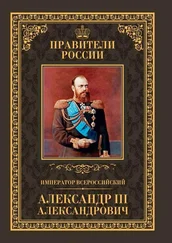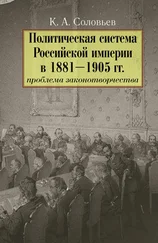Таких влиятельных и широко известных журналистов, конечно, было немного, но все же следует еще назвать несколько значимых имен: М. О. Меньшиков, А. А. Пиленко, В. В. Розанов, С. Н. Сыромятников…
Большинство законопроектов готовилось не депутатами, а правительством. В Первую Думу министерства внесли 16 законопроектов, во Вторую Думу – 287, в Третью – 2567, в Четвертую – 2625. Для сравнения: депутаты Первой Думы внесли 16 законопроектов, Второй Думы – 44, Третьей Думы – 207, Четвертой – 217. За время работы Третьей Думы всего было принято 2197 законов. Из них два по инициативе Государственного совета и 34 – депутатов Думы (за пять лет шесть законопроектов внес Государственный совет, а депутаты Думы – 265). Один из депутатов-октябристов писал в феврале 1909 года: «В работе Думы совершенно не видно плана – разбирают законы, которые подваливает правительство. Не Дума ведет свою линию, а правительство». В этом не сказывалась российская специфика. Подобное положение было характерно для любого законотворческого механизма. Говоря словами М. Вебера, лишь чиновник, имеющий в своем распоряжении разветвленный бюрократический аппарат, обладал «служебным знанием» – многочисленными сведениями, без которых сложно принимать решения. В этой связи в Великобритании в 1853–1861 годах были приняты решения, ограничивавшие число пленарных заседаний, посвященных рассмотрению депутатских биллей. В результате в 1895–1900 годах британское правительство вносило около 65 законопроектов в год. 187 биллей готовились депутатами. В итоге 45 правительственных законопроектов (около 70 %) и лишь 14 депутатских (около 7 %) обретали статус закона. В 1901 году 90 % времени депутаты тратили на обсуждение правительственных биллей и 10 % посвящали депутатским.
Большинство законопроектов в Думе представляли собой, по словам С. Ю. Витте, «закончики». Ф. А. Головин именовал их «хомяковской вермишелью». «Закончики» не имели большого значения для страны в целом, но были важны для отдельных городов, университетов, гимназий и т. д. Многочисленность «вермишели» объяснялась традициями дореформенного законотворчества. Прежде даже малозначимые подзаконные акты нуждались в подписи царя. Правда, для разных категорий законопроектов требовались различные процедуры. После 1906 года ситуация существенно изменилась. В январе 1908 года один из лидеров «Союза 17 октября» барон А. Ф. Мейендорф объяснял депутатам: «При прежнем строе существовал один нормальный законодательный порядок и наряду с этим приблизительно столько же законодательных путей, сколько проходов между сидениями в этом зале. Некоторые из этих путей были подлиннее, другие покороче, и я скажу, что некоторые были так коротки, что они для своего прохождения не требовали срока, превышающего период горения хорошей сигары. И вот жизнь заставляла идти различными законодательными путями, если включить всеподданнейшие доклады министров, достигавшие количества, по крайней мере, 20… Этими 20 путями удовлетворялись жизненные потребности на всевозможных поприщах – и временные, и постоянные изменения штатов, всевозможные финансовые меры». При новых обстоятельствах путь законотворчества был, в сущности, один. «Теперь одну Думу заставляют делать все то, что в прежнее время делали 20 путями». Мейендорф не сомневался в том, что это заметно затрудняло работу депутатов.
По словам В. А. Маклакова, уже Вторая Дума, «очевидно, не могла поспеть за министерской плодовитостью. В нее ежедневно поступали и мелкие, и крупные законопроекты, заготовленные канцеляриями на досуге междумского отдыха, и число внесенных таким образом законов в первые недели Думы превысило цифру 300». Было принято решение рассматривать «мелкие» законопроекты два раза в неделю от 7 до 10 вечера. В первую сессию Третьей Думы около трети времени депутатов тратилось на «вермишель».
Депутаты искали пути оптимизации законотворчества, ориентируясь на зарубежный опыт. С. И. Шидловский с некоторой завистью описывал в воспоминаниях английскую парламентскую процедуру обсуждения «закончиков»: раз в неделю в 7 часов утра заместитель спикера открывал заседание Палаты общин, если присутствовал хотя бы один депутат. Они вдвоем имели право пропускать всю «вермишель» сразу во всех чтениях. В Думе сложилась схожая практика. Так, в 1909 году 200 условных кредитов следовало утвердить за 1–2 заседания. Чаще всего это приходилось делать в конце сессии. В мае 1911 года в ежедневной повестке стояло около 100 законопроектов. В итоге на каждый тратилось полторы минуты. «Ни докладчики, ни сам председательствующий князь Волконский не знали, что они голосуют, и когда возбуждался кем-либо какой вопрос, они отвечали: „Там разберутся“, то есть Канцелярия [разберется]». В феврале 1912 года, когда до завершения работы Третьей Думы оставалось несколько месяцев, Я. В. Глинка записал в своем дневнике: «Все (депутаты. – К. С .) нервничают, хотят побольше пропустить до конца полномочий законов, времени не хватает, кидаются от одного закона к другому, получается, по меткому выражению одного из членов Думы, законодательная чехарда». В этом «калейдоскопе» могли затеряться и действительно важные инициативы. Проекты докладывались «с кинематографической быстротой, когда слово „принято“, оглашаемое председателем, уподоблялось тиканью часового маятника».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу