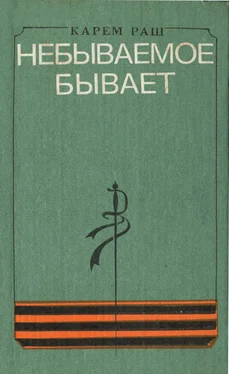Пора нам вернуться к себе в среднюю полосу России и южнорусские степи, пора нам в казачий край, на родину коневодства, где «смурую мглу там солнце рассеять не в силах». Это конечно же Вергилий. Мы условились не упоминать каждый раз сносками его имя. Это последний раз. Сделаны эти наброски, как я говорил, зимними вечерами.
«Вожа» для русского слуха как раскаты весеннего грома, как благовест. На реке Воже, у Рязани, за два года до Куликова поля русские дружины разбили ордынцев.
Рязань приняла первый удар орды, когда «прииде безбожный царь Батый на роусскоую землю». Евпатий Коловрат был в ту пору в Чернигове. Услышал страшную весть, понесся он с малою ратью к родному городу. Если штурм чужого Карфагена ломит кости французу Флоберу через две тысячи лет, то что же тогда чувствовать русскому всего-то через семьсот пятьдесят лет после того, как вырезана Рязань, и как перенести миг, когда дружина Коловрата, спешившись с дымящихся коней, не нашла ни единой живой души: «Множество народа лежаша ови побьены и посечены а ины позжены ины в реце истоплены». И «еоупатий вскрича в горести...»
И крик Евпатия стал вечным спутником его народа.
Крик Коловрата слился с гулом копыт коней его молчаливой дружины.
Они нагнали орду. И таранили ее.
Тысяча семьсот всадников против несметной армии степняков.
Эпическая песнь об этом еще будет написана.
Они выбрали верную смерть. И враги почувствовали, что «ни един от них может съехати жив с побоища». После увиденного в Рязани они не могли уже ни «съехати», ни жить на земле.
Эти тысяча семьсот безвестных всадников. Даже враги были подавлены и смущены духом нагнавшей их дружины и донесли Батыю: «Сии бо люди крылаты и не имеющи смерти тако крепко и моужественно ездя бьющеся един с тысящею и два со тмою».
Рязань всегда первая принимала удары орды — как позже и Ставрополыцина, и Дон.
Лучшая часть казачества унаследовала и сберегла дух коловратовой рати.
Все истинные казаки — дети Евпатия, дети русского порубежья.
Южнее Ставрополья раскинулась станица Невинномысская. По местному преданию, название свое станица получила после трагического события. Все мужчины, кто умел держать оружие, ушли в поход. Враг воспользовался отсутствием мужчин и сжег станицу, перерезал стариков и детей и взял в полон женщин. Вернувшись, казаки пережили те же минуты, что и Коловрат с дружиной в Рязани.
Увы, этот самый трагический сюжет есть и самый типичный для русской земли с былинных времен.
Потому-то Русь и выделила из своих недр «старого казака» Илью Муромца «со товарищи». Потому и мальчишки, послушные таинственному зову заступника, взлетают на неоседланных лошадей, как говорит поговорка, родившаяся в этих краях: «Конь — казаку крылья».
Не будем же подрезать крылья слеткам.
Рязань — земля Коловрата. Коли Брянщина по праву называет себя землей Пересвета, то Рязань — земля Коловрата, как Дон — земля Ермака. Мысленно переношусь в занесенный снегом, утонувший в сугробах маленький поселок. Научное поселение. Сюда с начала шестидесятых годов текущего столетия переехал единственный в стране институт коневодства. Он носит название «всесоюзный» и пытается с достоинством нести свое нелегкое бремя. Район называется Рыбновский. От Москвы три часа на электричке. В самом Рыбном еще один институт, пчеловодческий, с лучшим в мире музеем пчеловодства, где можно увидеть ульи в рост человека с пасеки царя Алексея Михайловича, в форме храмов и теремов. «Пчел доносится гул из священного дуба». Директор института Белаш Григорий Данилович, подвижник пчеловодства, живой и непосредственный, ибо он знает, что Вергилий пропадал на пасеке, роняет из «Георгии»: «Ты удивишься, как жизнь подобная по сердцу пчелам». Не каждый район имеет в своих владениях два института, каждый из которых единственный в стране. На территории района у крутого берега Оки есенинское Константиново, рукой подать.
Зимние вечера были долги. Перебираешь в памяти беседы в институте, встречи на молочной ферме, в конюшнях, манеже или листаешь пожелтевшие страницы тисненных золотом книг со штампом «Императорского скакового общества»... Выписки... И невольно уже захвачен заботами, преданиями и нравами отечественного коннозаводства с его мировыми взлетами, досадными упущениями, прерывистостью, горячей деятельностью и вялым безразличием общества, а то и напротив, лихорадочной гиппоманией, что охватила русское дворянство и к юности Пушкина ушла на убыль. Но еще в его пору, в году 1824, в России было 1339 конских заводов с 221 тысячью кобыл и с 22 тысячами жеребцов, и это только учтенных несовершенной статистикой. Каждый день в манеже и институте учишься вникать в суть суждений и язык людей, беззаветно отдавших жизнь служению лошади. То особый мир, когда-то широкий и всепроникающий, как жизнь, и ставший с моторами теперь почти кастово замкнутым. Здесь своя лексика, еще недавно бывшая всенародной (кто теперь отличит гнедую масть от саврасой?), и своя же, с вызовом, гордость знатоков, а порой и высокомерие по отношению к невежде, у которого — подумать только — «рысаки скачут». Эта горсточка людей, как бы оставшихся верными «древней вере», где в центре культа — золотистый конь, что был всегда символом огня и солнца. Они ревниво относятся ко всему, что связано о лошадью, и в глубине души уверены, что бензинный мир не отвернулся от лошади. Нет, хуже. Он предал ее..»
Читать дальше