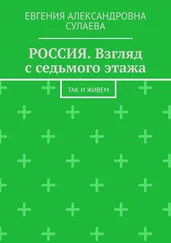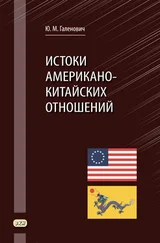Именно это остается сегодня главной причиной недоверия между Россией и Китаем.
Мне представляется, что выход из положения состоит в том, чтобы, никоим образом не торопясь, принимая во внимание и сложность ситуации, и состояние умов и настроений людей в России и в Китае, завершить демаркацию границы. Разработать и подписать новый договор о режиме границы, а затем, на основе всего этого и рассмотрения ныне существующих договоров о границе, разработать и подписать новый договор, который стал бы новой и единственной юридической основой границы между Китаем и Россией и снял вопрос о границе с повестки дня в межгосударственных отношениях.
При этом обе стороны могли бы «сохранить лицо». Ни от одной из них не требовалось бы «склонять голову и признавать вину». Обе стороны могли бы сделать заявления о том, что после согласования всех вопросов и подписания нового договора о границе единственной юридической основой границы будет в межгосударственных отношениях только новый договор.
А мне остается только добавить, что критически рассмотренная в этом – последнем – разделе нашей книги статья Ли Фэнлиня «Новый период китайско-российских отношений» тоже завершается в позитивном тоне: «Китайско-российские отношения вступили в новый период исторического развития. Чтобы поддерживать эту тенденцию развития, настоятельно необходимо укреплять взаимопонимание между народами двух стран. Это должно упрочить общественный фундамент китайско-российской дружбы и реализацию цели «навечно друзья и никогда враги», – утверждает автор статьи.
Напомню, что Ли Фэнлинь – участник двусторонних переговоров по пограничным вопросам, а в 1990-х гг. – посол КНР в Российской Федерации. В настоящее время он директор Института исследования проблем Европы и Азии Научно-исследовательского центра изучения проблем развития при Госсовете (правительстве) КНР. Он ведущий эксперт по России и один из самых высокопоставленных партийных чиновников в государственном аппарате КНР.
Послесловие. Китайский социализм и Россия
В начале XXI века произошло на первый взгляд малозаметное и малозначительное явление. Чуть-чуть изменилась одна из формулировок, которыми пользуются в Коммунистической партии Китая.
До этого на протяжении примерно двух десятилетий там говорили и писали: «Ю ЧЖУНГО ТЭСЭ ДЫ ШЭХОЙЧЖУИ», что предлагалось переводить на русский язык как «социализм с китайской спецификой» или «социализм со своеобразием Китая».
И вот в первые годы нового века, во времена генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао, стали говорить и писать по-новому: «ЧЖУНГО ТЭСЭ ДЫ ШЭХОЙЧЖУИ», что можно понимать как «самобытный китайский социализм». Исчезло всего одно короткое слово: «Ю» – «быть присущим чему-то», «обладать каким-то свойством». Но из-за этого изменились взаимоотношения между оставшимися словами, и возник новый смысл предлагаемой формулировки.
В идеологии такой партии, как КПК, мелочей не бывает, тут имеет значение каждая буква, каждый знак. Очевидно, в КПК в начале нынешнего столетия завершился процесс переосмысления ситуации в мире и в мировом социализме, в соответствии с чем и было заново определено место китайского социализма. Иными словами, в КПК оказался пройденным путь от «социализма со своеобразием Китая» к «самобытному китайскому социализму».
Почему это произошло? Каким был этот путь?
Прежде всего важно принимать во внимание неразрывную связь в идеологии коммунистических партий двух понятий: «марксизм» и «социализм». Уже в 1930-х годах в КПК заговорили о китаизированном марксизме, т. е. наряду с общими для всех компартий мира понятиями «марксизм» и «основные принципы марксизма», в КПК сочли необходимым выделить свое понимание марксизма, начав называть его марксизмом китаизированным. Это обосновывали необходимостью приспосабливать марксизм к специфическим условиям, существовавшим в Китае.
В период до образования Китайской Народной Республики и в дальнейшем там сосуществовали два термина: «марксизм-ленинизм», что писалось в одно слово, в отличие от термина, применявшегося в СССР и КПСС: «марксизм-ленинизм» и «идеи Мао Цзэдуна». Потом, особенно во время «культурной революции», некоторое время на виду оставались только «идеи Мао Цзэдуна». А после смерти Мао в первой половине 1980-х гг., в золотой век реформ, проявлялась тенденция говорить о марксизме без добавлений имени Мао Цзэдуна и без упоминания о ленинизме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Юрий Галенович - Сталин и Мао [Два вождя]](/books/32541/yurij-galenovich-stalin-i-mao-dva-vozhdya-thumb.webp)