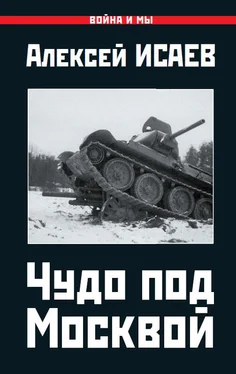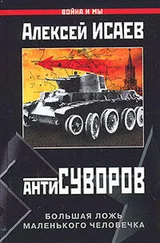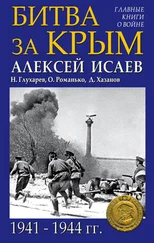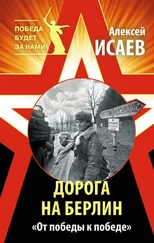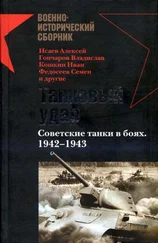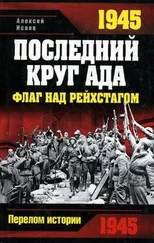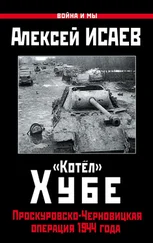Вопрос использования танковых войск в Битве за Москву, пожалуй, один из самых сложных и многогранных. С одной стороны, несомненно, что именно танки сыграли огромную роль в успехе Красной армии в обороне на подступах к столице. Причем большую роль играл качественный фактор. Хотя немцы имели средства поражения Т-34 и КВ, их использование в сложных дорожных условиях оказывалось затруднено. Это делало контратаки новых танков, в особенности КВ, особенно эффективными. С другой стороны, советские танковые войска вошли в осень 1941 г., сделав шаг назад в организации танковых войск, отказавшись от танковых дивизий в пользу бригад и танковых батальонов. Однако в погодных и тактических условиях Битвы за Москву применение более крупных соединений, чем танковая бригада, представляется возможным только в самом начале октября 1941 г. или же в ходе контрнаступления. Задачи же для соединения класса «танковая дивизия» в лесах к северо-западу и северу от Москвы во второй половине ноября и в ноябре просматриваются с трудом.
Напрашивается немного неожиданный вывод, что именно использование танков в небольших группах являлось оптимальным для конкретных природных и тактических условий. При неизбежных проблемах в использовании танков командирами стрелковых соединений. Также в условиях неопределенности обстановки выдвижение небольшого резерва в лице танковой бригады на кажущийся опасным участок и ее «консервация» на этом участке при стабилизации обстановки незначительно влияли на общее состояние танковых войск фронта в целом. Неверно направленная дивизия стала бы уже серьезным просчетом.
С другой стороны, танковым бригадам (и этим они разительно отличались от боевых групп танковых дивизий) не хватало поддержки артиллерии. В редких случаях они получали поддержку артполков РГК. Это существенно снижало их возможности, в том числе как «пожарной команды» на Западном фронте под Москвой.
Внимательное изучение событий октября-ноября 1941 г. на Западном фронте показывает еще один важный момент: советские бригады, полки или дивизии наступали в ходе оборонительного сражения за Москву едва ли не чаще, чем оборонялись на заранее подготовленных позициях. Это предъявляло высокие требования к наступательным возможностям частей и соединений Красной армии, выучке войск, в том числе новых формирований.
К сожалению, наступательные действия советских войск под Москвой велись далеко небезупречно. Взаимодействие пехоты и танков, пехоты и артиллерии оставляло желать лучшего. Контрудары, к сожалению, становились затратным мероприятием с негарантированным результатом. Вообще нельзя не обратить внимание на тот факт, что контрудары и контратаки являлись столь же распространенной формой боевой деятельности войск, как и удержание позиций в жесткой обороне. Обстановка так или иначе требовала контратак и контрударов, невзирая на желание или нежелание их осуществлять.
В связи с этим попутно можно сделать вывод о том, что переход ГА «Центр» к обороне в ноябре 1941 г. вместо продолжения наступления, скорее всего, привел бы к неудаче советского контрнаступления. Такой вывод заставляют сделать такие эпизоды как бои на Стремиловском рубеже, сражения за Скирманово, Дорохово и контратаки на Красную Поляну, Белый Раст и Крюково. Удары даже с участием свежих соединений, скорее всего, оказались бы отражены противником. Только запредельная растяжка флангов и дальнейшее ослабление боевой численности в наступательных боях создали предпосылки для успеха с вводом в бой детищ «перманентной мобилизации».
Здесь мы плавно переходим к теме действий и бездействия, которые отдаляли достижение цели срыва планов немцев по захвату Москвы. К таковым приходится отнести неудачное ведение обороны Можайского рубежа войсками 5-й армии в октябре и неудачу в обороне 144-й сд той же армии в ноябре. В тот же список попадает, к сожалению, решение К.К. Рокоссовского об отводе войск на рубеж Истры и Истринского водохранилища и достаточно хаотичные действия по предотвращению захвата немцами Клина и Солнечногорска. В условиях крайнего напряжения сил даже частные неудачи порождали «принцип домино» с обвалом соседних участков. Все эти промахи порождали необходимость задействовать силы и средства, предназначенные для контрнаступления, в парировании кризисов. Также немалую опасность создал определенный ступор, возникший в штабе М.Г. Ефремова во время Наро-Фоминского прорыва. Обстановка для 5-й армии была на грани «котла» и решающие шаги для выхода из кризиса предпринял все же Л.А. Говоров, а не М.Г. Ефремов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу