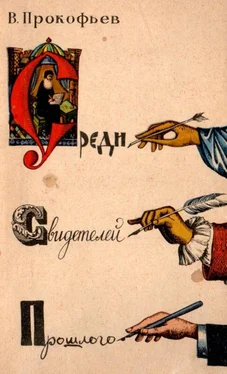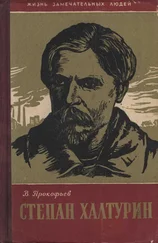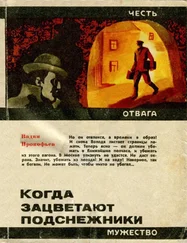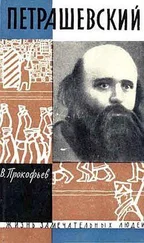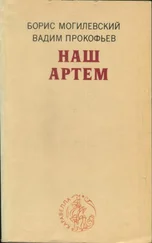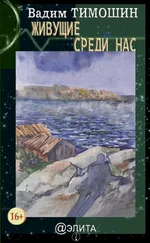Но в данном случае фальсификаторы исторического прошлого древнерусского государства опирались на реальный, подлинный исторический памятник, да притом такой замечательный, как «Повесть временных лет». Между тем в архивах нашей страны среди коллекций рукописей музеев и библиотек есть немало заведомо подложных памятников.
Ученому нужно уметь отличать подделки или заново сфабрикованные подлоги от подлинных памятников, случайно испорченных переписчиками или неграмотными составителями, как это имеет место в целом ряде списков «Русской правды».
Можно ли описки называть исторической фальсификацией, подделкой документа?
Конечно, нет. Но отсюда напрашивается вывод, что, изучая исторические памятники, пуская их в научный оборот как источники, исследователь, и в первую очередь ученый-архивист, должен проверить подлинность документа, вскрыть вкравшиеся в него описки, искажения, объяснить их происхождение и по возможности реконструировать подлинный текст.
Ну, а как же быть с заведомыми фальшивками, ведь таковые хранятся в наших коллекциях документов? Ужели их нужно хранить и впредь, не лучше ли выбросить их, освободить место подлинникам?
Оказывается, нельзя выбрасывать поддельные документы. Они интересны не сами по себе, а в связи с той целью, ради которой были сфабрикованы, в связи с той политической обстановкой, в которой их использовали. А значит, как это ни покажется странным на первый взгляд, подделки — тоже исторические памятники, только историк-исследователь должен уметь правильно вскрыть, какие тенденции, политические или своекорыстные, стимулировали появление на свет подобных подлогов.
При выполнении этой задачи исследователю уже не обойтись одними приемами внешней критики источника, а если у него в руках нет подлинника (подлинника фальшивки), то внешняя критика и вовсе отпадает. Как же быть? В таком случае историк-источниковед обращается уже к критике документа по его содержанию.
Много, очень много потрудились архивисты, историки-исследователи, чтобы обнаружить и доказать подложность целого ряда памятников, а ведь ими оперировали и некоторые ученые, политики и царская администрация, и просто враждебно настроенные к России, Советскому государству иностранные агрессоры.
Вот несколько примеров такой фальсификации и их разоблачения.
14 сентября 1812 года еще не предвещало страшных дней 16-го и 17-го. Москва горела, и пылающие здания казались наполеоновским солдатам жертвенными кострами, зажженными в честь победителей. Но днем 16-го поднялся ураган. Огненные драконы легко перелетали через Москву-реку, осыпая ее градом шипящих головешек, пепел закрывал солнце, чернил золото куполов. Дворцы и лачуги одинаково были подвластны огню. Сгорела Бутурлинская библиотека, сгорело замечательное собрание древних манускриптов Мусина-Пушкина. Сгорело 6 596 домов из 9 151, бывших в Москве к началу пожара.
В огне народной Отечественной войны сгорала и великая армия Наполеона.
Но дома можно отстроить, можно вновь позолотить купола. Нельзя возродить из пепла древние рукописи, и сиятельный меценат граф Мусин-Пушкин уже не сможет теперь похвастать перед вельможами-дилетантами одной весьма редкой реликвией древнерусской литературы.
Не сможет?
Общество истории и древностей российских при Московском университете всегда назначало собрания своих членов к вечеру. Уютно потрескивают свечи, вырывая из тьмы зала длинный стол под зеленым сукном. Свечи требуют тишины и торжественных, неторопливых речей.
Алексей Федорович Малиновский, небогатый чиновник архива министерства иностранных дел, не слушает, он улыбается каким-то своим очень приятным мыслям.
Еще бы, вот сейчас этот беззубый старец закончит речь, и Малиновский поразит собравшихся, а завтра о нем заговорит вся Москва. Да что Москва — Петербург, вся Россия!
Он расскажет, как вчера к нему, Малиновскому, явился какой-то Петр Архипов, представившийся московским мещанином, и молча протянул харатейный список 1375 года, сделанный Леонтием Зябловым. На вопрос, откуда этот список взялся, сей московский мещанин таинственно сообщил: «Иностранец, по фамилии Шимельфеин, выменял в Калужской губернии у одной помещицы, а фамилию свою помещица говорить запретила».
Малиновский поморщился, приятные мысли перебило воспоминание о 160 рублях, которые он отвалил Архипову. «Поторговаться, поторговаться надо было…»
Читать дальше