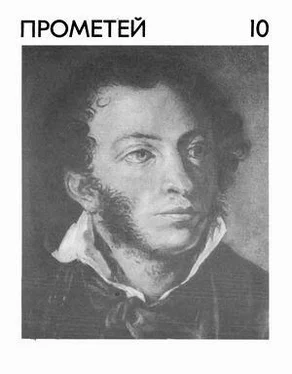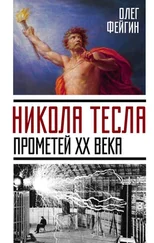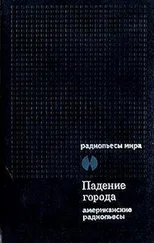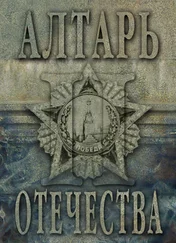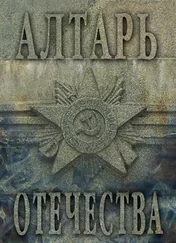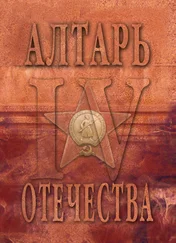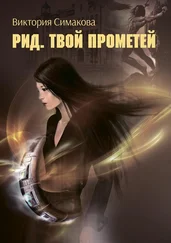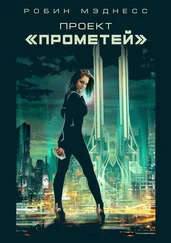«На саранчу» Пушкин всё же поехал — по совету «его любезного друга» Александра Раевского, который, как утверждает Вигель (со слов Франка, ближайшего Воронцову человека), и Воронцову внушил идею послать Пушкина в эту командировку [54] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.
. Поручено ему было объехать Херсонский, Александрийский и Елизаветградский уезды [55] См. «Летопись», стр. 469.
. Получив 23 мая 400 р. ассигнациями «на прогоны» [56] Там же, стр. 470.
(на почтовых лошадей), Пушкин отправился в путь. В Херсоне он побывал [57] Этому свидетельство бумага исправляющего должность херсонского гражданского губернатора, вице-губернатора Фиренеля от 8 января 1825 года на имя Воронцова об отсылке в его канцелярию 430 р., выданных на прогоны чиновникам Чернявскому, Пушкину и Писаренко. См., «Летопись», стр. 552.
. О дальнейшем путешествии точных данных нет.
Вернулся 28 мая. На следующий день М. Ф. Орлов пишет жене в Киев: «Пушкин был послан на саранчу. Он воевал с нею и после весьма трудной кампании вчера вернулся, отступив пред несметным неприятелем» [58] «Летопись», стр. 471—473.
.
По преданию [59] К. Зеленецкий, Заметки о Пушкине. «Библиографические записки», 1858, № 5, стб. 1317.
, написал язвительный отчет в стихах:
Саранча
Летела, летела
И села;
Сидела, сидела,
Всё съела,
И вновь улетела.
Остроумный экспромт Пушкин мог сказать в канцелярии, но едва ли позволил бы он себе написать такой бесцеремонный отчёт [60] В прежнее время эти строки включались в Собрания сочинений Пушкина, но в наше время они в Сочинения Пушкина не включаются; не введены они и в «Летопись» — эпизод с отчётом маловероятен.
.
Вот как рассказывает об этих событиях Вигель: «По совету сего любезного друга (Раевского. — Т. Ц.) Пушкин отправился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание, им получаемое, почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осуждён на каторжную работу (aux travaux forcés), но что, впрочем, после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве министерства иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде» [61] Ф. Ф. Вигель, Указ. соч., стр. 172.
. Вот эту-то переписку с Воронцовым Пушкин и назвал «полемической». Прошение об отставке Пушкин подал в начале июля на высочайшее имя, мотивируя просьбу слабостью здоровья [62] См. «Рукою Пушкина», стр. 836—837.
.
Между тем отношения Пушкина с Елизаветой Ксаверьевной развивались. Она увлеклась вспыхнувшим в поэте страстным чувством.
Пушкин говорил о своих ночных с нею свиданиях Вере Фёдоровне Вяземской [63] «Из записей П. И. Бартенева», стр. 267.
, поверенной в его сердечных делах (с 7 июня 1824 года она жила в Одессе, куда привезла к морю своих больных детей).
Свидания в доме были затруднительны. Влюблённые ищут уединения в другом месте.
Под пером поэта зарождаются стихи:
Есть ý моря под ветхою скалой
Уединённая пещера.
Она полна прохладной темнотой
(II, 992).
Тут же насыщается пейзаж лирическим чувством:
Под скалой
Пещера дикая таится,
Обитель неги, в летний зной
Она прохладной темнотой
[Полна]
(II, 993).
Через три страницы той же рабочей тетради Пушкин возвращается к этой теме:
Пещера дикая видна.
Она полна прохлады влажной.
В ней плещут волны — и всегда
Не умолкает гул протяжный
(II, 993).
Наконец отливается четверостишие, живописующее дорогое поэту прибежище:
Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стеснённых волн
Не умолкает гул протяжный
(II, 472).
Наброски эти, написанные в конце мая — начале июня, являются первыми стихами после двустишия «Я узнаю сии приметы,/ Сии предвестия любви…», которые можно уверенно отнести к Воронцовой.
На следующем листе тетради поэт дважды рисует женскую руку, играющую на рояле. Нам, кажется, знакомы эти длинные, изогнутые пальцы — не их ли видели мы на портретах Воронцовой [64] Руки Воронцовой видели мы только на двух её портретах — английского живописца Хейтера и на литографии Принцгофера, 1852 года.
? Пушкин слушал, очевидно, её игру [65] О том, что Воронцова была музыкантшей, говорит её изображение у органа, а также и сообщение Марии Раевской брату Николаю о том, что она передала — очевидно, по его поручению — графине оперу «Моисей» Россини. (См. письмо М. Н. Раевской к Н. Н. Раевскому по возвращении из Одессы 21 декабря 1823 года. — «Неизданные письма М. Н. Волконской». «Труды Гос. исторического музея», вып. II. М., 1926, стр. 13—15; в публикации «се 21 X — bre» ошибочно переведено: «21 окт.». Год проставлен неверный: «1824?».
. На обороте листа с этими рисунками находится черновик второго письма Казначееву, написанного после подачи прошения об отставке.
Читать дальше