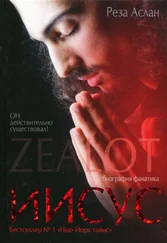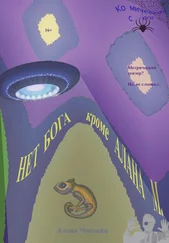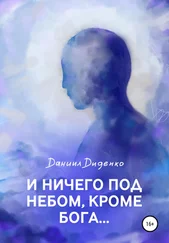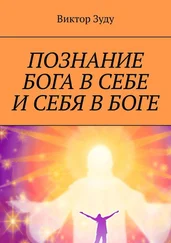Наконец, и это самое важное, казнь Бану Курайза не была, как это часто представляется, отражением природного религиозного конфликта между Мухаммадом и евреями. Эта теория, которая иногда преподносится как неоспоримая истина в исламских и иудейских исследованиях, основана на убеждении, что Мухаммад, считавший свое послание продолжением иудейско-христианской пророческой традиции, прибыл в Медину в абсолютной уверенности в том, что евреи подтвердят пророческую природу его личности. Предположительно для того, чтобы облегчить процесс принятия его евреями как Пророка, Мухаммад постарался сблизить две общины путем заимствования мусульманами ряда еврейских ритуалов и практик. Однако, к его удивлению, евреи не только отвергли его, но и яро выступили против утверждения о подлинности Корана как источника божественного откровения. Обеспокоенный тем, что такой отказ евреев некоторым образом дискредитирует его пророческие заявления, Мухаммад не имел другого выбора, кроме как жестко выступить против евреев, отделив от них свою общину, и, по словам Ф. Е. Петерса, «перемоделировать ислам в качестве альтернативы иудаизму».
У этой теории есть два слабых места. Прежде всего она недооценивает религиозную и политическую проницательность Мухаммада. Неправильно представлять Пророка как невежественного бедуина, воздававшего милости стихиям и склонявшегося перед каменными плитами. Это был человек, который почти полвека прожил в религиозной столице Аравийского полуострова, где состоялся как успешный торговец, имевший прочные экономические и культурные связи как с еврейскими, так и с христианскими общинами. Было бы до смешного наивным для Мухаммада считать, что его пророческая миссия будет «столь же очевидна для евреев, как для него самого», цитируя Монтгомери Уотта. Мухаммаду достаточно было только ознакомиться с азами иудаизма, чтобы понять, что он совершенно необязательно будет принят как один из их пророков. Безусловно, он знал, что евреи не признавали в качестве пророка Иисуса; почему же тогда он должен был считать, что в этом качестве примут его?
Но самый вопиющий недостаток этой теории заключается не в том, сколь мало доверия оказывают ее приверженцы Мухаммаду, а в том, каким доверием у них пользуются евреи Медины. Как отмечалось, еврейские кланы в Медине – а их члены были арабами по происхождению, обращенными в иудаизм, – едва отличались от язычников как в культурном плане, так и, если на то пошло, в религиозном. У них не было своей литературной традиции. Арабские источники повествуют, что еврейские кланы Медины говорили на своем языке, называемом ратан , который ат-Табари назвал персидским, но который, вероятно, представлял собой гибрид арабского и арамейского. Нет никаких свидетельств, подтверждающих, что они говорили или понимали иврит. На самом деле их знание еврейских писаний было, вероятно, ограничено лишь несколькими свитками законов, несколькими молитвенниками и незначительным числом фрагментарных арабских переводов Торы – то, что С. У. Барон называет «искаженной устной традицией».
Их познания в иудаизме были настолько невелики, что некоторые ученые не верят, что они были настоящими евреями. Д. С. Марголиус считает, что евреи Медины ненамного отличались от свободных групп монотеистов – за исключением ханифов, которых правильнее всего назвать «рахманисты» ( Рахман – второе имя Аллаха). Хотя многие не согласны с анализом Марголиуса, существуют и другие причины задать вопрос о том, в какой степени еврейские кланы Медины отождествляли себя с носителями еврейской веры. Примем во внимание, например, что к VI в. было установлено, как отмечал Х. Г. Рейсснер, соглашение между еврейскими общинами диаспоры о том, что неизраэлит мог считаться евреем только в том случае, если он был «последователем закона Моисея… в соответствии с принципами, изложенными в Талмуде». Такое ограничение автоматически бы исключало еврейские кланы Медины, члены которых не были израэлитами, не соблюдали строго закон Моисея и, казалось, не обладали серьезными знаниями Талмуда. Более того, бросается в глаза отсутствие в Медине легко идентифицируемого археологического доказательства значительного еврейского присутствия. Согласно Джонатану Риду, определенные археологические находки (остатки каменных сосудов, руины водных резервуаров для омовения ( миква ), захоронения оссуариев) должны присутствовать в этих местах для подтверждения существовавшей там общины – носителя еврейской религиозной идентичности. Насколько нам известно, ничего из этого не было обнаружено в Медине.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
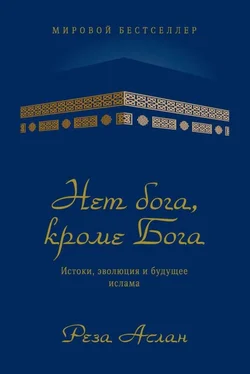
![Ясмина Реза - Бог резни [=Бог войны]](/books/63616/yasmina-reza-bog-rezni-bog-vojny-thumb.webp)
![Ясмина Реза - Бог войны [=Бог резни]](/books/63617/yasmina-reza-bog-vojny-bog-rezni-thumb.webp)