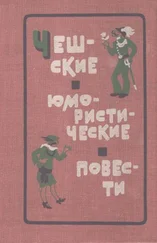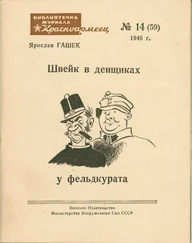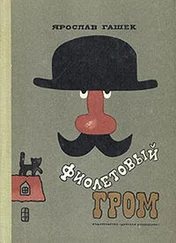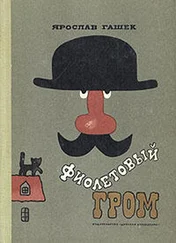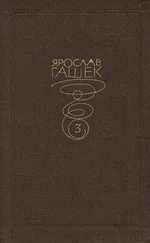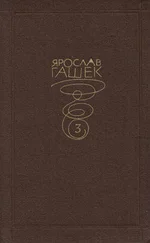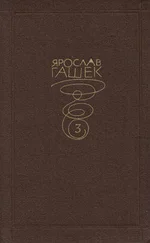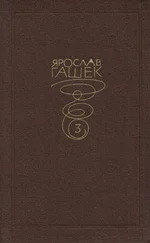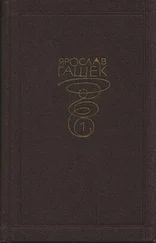Звоню. А сам нервничаю: вдруг подозрение подтвердится. Как-то всегда неприятно уличать другого в нечестности, точно сам виноват в этом.
Ответила Зоя Васильевна. Очень приятный голос, но чувствуется, болезненный. Не хватило духу сразу задать этот вопрос. Договорились встретиться в редакции после выздоровления.
Вскоре пришла Татьяна Ивановна узнать, нет ли новостей. Разговорились. Осторожно завел речь о семье, родственниках и тут-то…
— Шура ведь в родной семье только до трех лет жила.
— Как так?
— А вот так. Семья у нас была большая, жилось тяжко очень. Отец, хоть и хороший сапожник, мастеровитый, но все пропивал. А когда умер, совсем уж невмоготу стало. В это время была перепись населения, в 1897 году. Пришел к нам в дом писарь Василий Малоярославцев, из волости приехал. Увидел нашу нужду. Он и предложил забрать с собой самую младшенькую, Шуру. Приглянулась ему. А у самого тогда еще детей не было.
Рассказывала она это, а меня все время мучил вопрос: почему же отчества у нее с Шурой разные. Набрался духу, наконец, да спросил.
— Проще простого, — ответила она. — Мы ведь татары. Каждую из нас крестили. Насильно. Тогда такое время было. Так вот, фамилию и отчество присваивали тех, кто крестным был. Так и получилось, что я Ивановна, а Шура — Гавриловна. И фамилии потому разные.
Фу, как гора с плеч! Значит, никаких подвохов. Надо действовать, искать адрес жены Гашека. Но где, у кого, как? Связался с редакцией «Советской России», там посоветовали позвонить в Куйбышев, начальнику военного музея М. Ф. Фрунзе Штыкину Иосифу Абрамовичу. И вот уже есть адрес чехословацкого журналиста Зденека Штястного, который сообщил в нашей печати об А. Г. Львовой-Гашековой. Вскоре в «Советской Башкирии» была напечатана его статья о некоторых неизвестных фактах личной жизни писателя в Уфе, о его отношениях с Шурой, неизвестные фотографии тех времен. Тогда же редакция обратилась с просьбой к читателям сообщить какие-либо сведения о людях, знавших писателя или слышавших его выступления.
Статья вызвала живые отклики. В редакцию начали приходить письма, то и дело раздавались телефонные звонки… Все хотели узнать, не нашлось ли что-нибудь нового о Гашеке. Пришло письмо от двоюродной тетки Шуры — учительницы-пенсионерки Риммы Георгиевны Катковой из села Ново-Троицка Мишкинского района Башкирии. Она хорошо помнит писателя и Шуру, сообщила некоторые факты об их пребывании в Уфе.
Тот исключительный интерес, который проявили советские люди к жизни Гашека в Уфе, та внимательность и заботливость о том, чтобы найти больше новых сведений о деятельности замечательного чешского писателя-коммуниста и интернационалиста, как-то само собой натолкнули меня на мысль заняться поисками людей, знавших Гашека, документов, публикаций, связанных с его работой.
Первые удачи на этом пути увлекли, захватили, теперь уже трудно было оторваться от поисков, они, как магнит, тянули к себе, заставляли все глубже и глубже проникаться событиями революционных лет, духом того времени, «проживать» их вместе с теми, кто активно участвовал в них. А они, эти люди, и в самом деле способны заразить кого угодно, каждого, кто хоть однажды услышит их рассказы.
Как-то однажды встретил меня на улице знакомый комсомольский активист Ирек Гайнетдинов.
— Вы разыскиваете тех, кто был знаком с Гашеком? Так у нас в артели «Новый быт» работал один из них. Хороший приятель писателя. Столько рассказывал…
— Кто? Где он? — всполошился я.
— Ганцеров. Степан. Недавно на пенсию ушел.
— Домашний адрес?
— Не знаю. Он где-то на новом месте живет. Поэтому в артели неизвестно. Если узнаю — сообщу.
Расстались. Он ушел себе спокойненько, а я места не нахожу. Какая досада! Ждать? Но разве усидишь тут! Бегу в адресное бюро. Фамилия есть, имя — тоже, а все остальное приблизительно можно сказать.
Так оно и вышло. Адрес найден.
Вскоре состоялась и первая встреча. Степан Викторович оказался на редкость интересным человеком. И хоть образование-то у него было не ахти какое (трехклассная церковно-приходская школа), но начитанность, эрудиция отменные. Живинка, изюминка какая-то сидела в нем. Видимо, сказалась многолетняя работа наборщиком типографии, а затем и журналистская деятельность. Как-то в одном из своих писем он в шутку подписался: «Бывший наборщик, бывший зав. типографией, бывший литработник, ответственный секретарь, зам. редактора районной газеты, бывший ответственный редактор двух районных газет Куйбышевской области, бывший инвалид Отечественной войны, бывший наборщик типографии артели инвалидов „Новый быт“, а ныне пенсионер». Уже по этому перечню должностей можно судить о его развитии, интересах, энергии. К тому же следует добавить, что он был и одним из активных комсомольцев Уфы. Привлекло и то, что многого достиг своей настойчивостью, работоспособностью. Оставшись круглой сиротой в 12 лет, начал работать учеником наборщика, быстро и хорошо освоил профессию, недаром потом о нем говорили «Степан — золотые руки».
Читать дальше
![Станислав Антонов Красный чех [Ярослав Гашек в России] обложка книги](/books/405510/stanislav-antonov-krasnyj-cheh-yaroslav-gashek-v-ros-cover.webp)