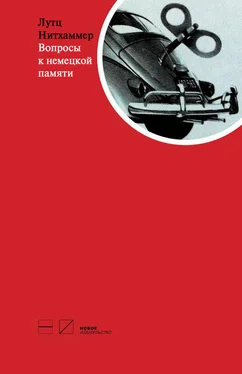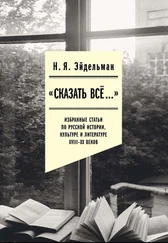Бабетта Баль в одном предложении упомянула, что в Страстную пятницу умер ее муж. Поскольку больше она к этому не вернулась, интервьюер спросила ее, умер ли ее муж именно в Страстную пятницу. «Да, да, в Страстную пятницу». «Но не от бомбежки», – уточняет интервюер.
...
Нет-нет, так. А мы тогда были там у сестры. И там у бомбоубежища столько погибло, там на убежище бомбу сбросили. И тогда, раз муж мой умер, они сразу и его тоже на кладбище забрали. Понимаете. Только вот они лежали все не в морге, а перед моргом. Это я вам скажу, это, это, это я в жизни не забуду. Ну вот, а потом я там у сестры своей…
Можно предположить, что господин Баль во время или после налета оставался в бомбоубежище и там умер от сахарного диабета; возможно, погиб он и иначе. Мы этого не знаем. Бабетта Баль рассказывает дальше – о том, как обезвреживали бомбу, как восстанавливали водопровод, как встретились с солдатами оккупационных войск, как жили вместе с родственниками. Но мы знаем, что человек, который умер «так» в Страстную пятницу, был «большой любовью» Бабетты: это она в другом месте неоднократно подтверждает в ответ на вопросы интервьюера, добавляя с характерной для этих мест будничностью:
...
Да, надо сказать, у нас взаимопонимание было.
Мы также знаем, как Бабетта вышла замуж. Она была «прислугой за все» в пивной, где ее эксплуатировали сверх всякой меры, так что ее друг сказал: «Все, хватит, женимся». Он хоть и состоял в СА, но был безработным, так что отец не хотел дать согласия на свадьбу, покуда друг Бабетты не найдет себе работу. А 20 апреля 1934 года она пошла в соседнюю пивную за плоской фляжкой для отца, у которого был день рождения тогда же, когда у Гитлера.
В пивной сидели люди из СА, и один из них спросил у нее, что это случилось с ее другом. И она пожаловалась на свое горе, и этот человек – он горняк был – сказал, чтобы ее жених назавтра пришел на шахту. И действительно, ему дали работу – сначала кокс грузить. После этого наконец состоялась свадьба, а Бабетта смогла бросить работу. Муж признал ее внебрачного малолетнего ребенка, а потом у них появилось еще двое детей. Будучи нацистами и рабочими, они чувствовали себя в шахтерском поселке очень вольготно, отношения с соседями были идиллические. Но как только муж умер и пришли американцы, связи распались и ничего не осталось, кроме ближайшей родни, уцелевших вещей и злейшей ярости:
...
А теперь подумайте только, у нас такое взаимопонимание было, помогали друг другу по-соседски, один за другого чуть не в огонь шли, можно сказать. А как война кончилась, как тут стрельба пошла, так они все на улице стояли, коммунисты все. «Вот американцы идут, с полевой кухней, сейчас нам хлеба дадут, сейчас накормят нас»… а тут я еще говорю соседке одной: «Мария, смотри не ошибись, такое будет – удивишься. Хрена они тебе дадут, по-нашему говоря. Не будет ни тебе полевой кухни, ни тебе жратвы с хлебом». И права я оказалась. Они просто через нас прошли, понимаете, маршем прошли, сначала бомбили, а потом прошли дальше, туда в Реклингхаузен. И на другой день, мы за работой пришли: «Мария, ну где же полевая кухня, где твой хлеб?» И тут они себя показали, понимаете, тут ты и свинья нацистская, и все такое, понимаете… Обзывали они меня. И те, которые так много получали {17}, тоже. И свиньей нацистской, и кем только еще не обзывали. И тогда я – знаете, я раньше-то так поскромней держалась, – а тут я как пошла, нахально так стала говорить: «Слушай, – я говорю, – вы отребье проклятое, кем ты стала, что у тебя есть? Все твое приданое, все твои шмотки, вся твоя мебель – откуда это все у тебя? От Гитлера, – говорю, – по моему же совету получено. А теперь меня свиньей нацистской обзывать будут, еще чего. Знаешь что, – говорю, – тут еще столько бомб лежит (а у нас еще много бомб лежало), так я их все вам под жопу засуну ночью!» Потом у нас там один отъявленный коммунист был, знаете, тут они все в кучу собираются, понимаете. И тогда я пошла к соседу, говорю: «Ханнес, если меня еще кто хоть раз обзовет свиньей нацистской, – ты меня знаешь. Я ни одному человеку ничего плохого не сделала, и так далее, и так далее. Я говорю: я соберу все бомбы тут с улицы, всех вас подзорву, и себя тоже, и детей тоже, – говорю, – чтоб тихо стало, вот так!»
5. «И – в Россию»
«А тридцатого июня случилось самое худшее, что у меня было за всю мою жизнь. Мы прочесывали один лесной район», – рассказывает 66-летний служащий Вернер Паульзен {18}. Это было в 1941 году, через неделю после нападения на Россию. Паульзен к тому времени был уже унтер-офицером. Получив профессиональную подготовку в конторе одного адвоката-еврея и проработав некоторое время на фирме Круппа, он в 1937 году был мобилизован в Имперскую трудовую повинность, потом в армию, был в Польше и во Франции; служил он посыльным, ездил на велосипеде и в основном был в тылу, а не на передовых позициях. Когда для него наступал перерыв в войне или когда его посылали на бельгийское побережье, чтобы тренироваться с приставными лестницами штурмовать дуврские скалы («неблагодарное занятие»), для него это было «вообще-то прекрасное времечко». А теперь, в 1941-м, он был командиром пехотного взвода, и в то время, как танковая дивизия СС «Лейбштандарт» двигалась по шоссе на Житомир, его рота должна была прочесывать окрестные леса и болота и прикрывать фланг.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу