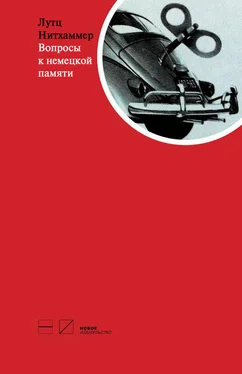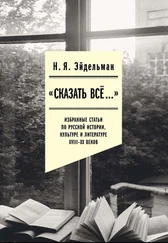Такая же разница проявляется – даже еще более отчетливо – в рассказах о советской военной оккупации, об освобождении иностранных рабочих, об изгнании немцев из Польши, о плене. Ни восточные, ни западные немцы не забыли о насилии, которое при этом творилось. Однако в Западной Германии, где личного опыта взаимодействия с русскими меньше, немцы в этих рассказах неизменно выступают в качестве жертв – в частности, жертв нападений, грабительских набегов и поджогов, устраиваемых русскими и поляками, отпущенными с принудительных работ в Рурской области, не говоря уже о волне грабежей, изнасилований, унижений, разрушений и зверств, которые творили солдаты Красной армии в Восточной Германии: о них слыхали все, кто бежал оттуда, но на собственной шкуре их испытало гораздо меньшее число опрошенных. Те, кто провели на Востоке больше времени, – например, жили там в период между вступлением советских войск и «изгнанием» или были в плену, – зачастую рисуют намного более дифференцированную картину: они проводят различия, например, между боевыми и оккупационными частями или между поляками и русскими; они рассказывают о том, как ловко им удалось спасти самих себя или свои семьи от насилия, царившего в округе. Порой рассказывают и о пребывании в плену: о суровых, но оказавших большую помощь русских врачах или начальниках лагерей; о меновой торговле с русскими, которые на воле жили не лучше, чем немецкие солдаты в плену; о шкурничестве, доносительстве и других подлостях, имевших место среди своих же товарищей-немцев. Однако на Западе такие дифференцированные рассказы, как правило, служат только фоном для историй о той работе по выживанию, которой занимался рассказчик. Но в целом наиболее часто вспоминаются насилия, которые творили русские в конце войны: это было ожидание, которое находило достаточно подтверждений как в собственной жизни респондента, так и в рассказах о пережитом другими. Немцы в этих рассказах предстают жертвами той самой звериной непредсказуемой натуры, которую они и прежде чуяли за славянской тупостью и эмоциональностью. Иными словами, если американские негры, тоже изображавшиеся нацистами в качестве зверей, приятно разочаровали немцев, то в восприятии русских в конце войны расистская схема не рушится, а подкрепляется; впоследствии, в годы холодной войны, появляется возможность рационализации этих предрассудков путем превращения их в антикоммунистическую позицию. При этом большинство респондентов, сетующих на свою тяжкую судьбу в 1945 году и после, ни слова не говорят о том, поделом ли досталось немцам. Как правило, они оставляют этот вопрос открытым; некоторые, правда, принимают в расчет то, что «Гитлер первым начал войну».
В ГДР же картина, как правило, совершенно иная. Воспоминания о насилии, пережитом в конце войны, там даже больше распространены, чем на Западе, и зачастую более конкретны. И в интервью респонденты редко замалчивают этот опыт. Однако паттерны опыта на Востоке более разнообразны и, как правило, помещаются в иные контексты. Начать с того, что там по-другому говорят об иностранных рабочих: я ни разу не слышал, чтобы их считали в «штуках»; нередко рассказчик может вспомнить какую-нибудь личную встречу с одним из них; многие знают, где находились лагеря, в которых жили пригнанные из других стран работники (на этих местах сегодня, как правило, стоят памятники), или по собственной инициативе рассказывают о том, в каких ужасных условиях те жили, о колоннах заключенных, которых в последние недели войны гнали через города и деревни. Более молодые респонденты сообщают о тех расистских картинках, которые им показывали в школе и исходя из которых они ожидали адских зверств от приближавшихся русских войск.
Такая работа воспоминания не представляла собой (в подавляющем большинстве случаев) результата простого «промывания мозгов»: это было видно по тому, что опрошенные говорили и об изнасилованиях, творимых солдатами фронтовых частей, в том числе неоднократно описывая особо страшные случаи, имевшие место у них в семьях, но у них на этой основе не сложилось стереотипа, в котором сексуальные отношения между русскими и немцами по определению конструируются как изнасилование: в них оставалось место и для эротики, и для комизма, и для проституции. Стереотипными можно скорее назвать утверждения большинства рассказчиков, будто насиловали почти одни только фронтовые части в угаре первых дней или недель после прихода Красной армии в германские города и деревни, а потом якобы очень быстро и жестоко была восстановлена дисциплина и войска были выведены или помещены в казармы. После нападений солдат на мирных немцев или немок, неизменно рассказывают респонденты, приезжал армейский грузовик, пьяных солдат кидали, «как бревна», в кузов и после этого никто «никогда о них больше не слыхал».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу