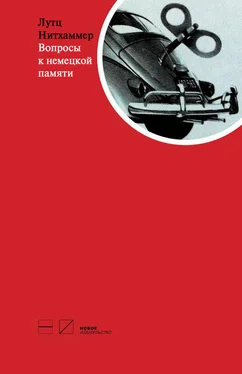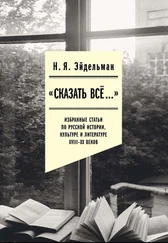Со мной фактически обращались так, как если бы я еще был тем человеком, которым был прежде.
Чем было вызвано разделение его личности на два явно равноценных, но диаметрально противоположно оцениваемых я ? Основанием для его исключения из рядов партийной элиты послужили найденные в его гестаповском деле материалы, которые свидетельствовали, что он проявил слабость перед лицом врага и назвал имена некоторых соратников. Господин Хабер не говорит, что в деле ничего подобного не сказано, но утверждает, что во время допросов называл только те имена, которые на тот момент и так уже были известны гестапо, проведшему сложную операцию по раскрытию регионального центра коммунистической молодежной организации. Он подал заявление в комиссию партийного контроля, где изложил свои показания; но, говорит он, комиссия сначала больше верила гестаповским документам – по крайней мере все время, что он оставался на своей должности. После того как Людвиг Хабер был снят, Сталин умер, произошли события 17 июня и прошел еще год, ему удалось добиться, чтобы его воспоминаниям о былых событиях поверили и его честь была восстановлена. Господин Хабер сам знает, что обе версии для стороннего человека обладают равной степенью убедительности. Он достаточно часто заседал в подобных комиссиях и действовал по принципу «доверяй, но проверяй», т. е. принимал решения, основываясь на документах. А теперь судья сам оказался в жалком положении обвиняемого и мог противопоставить только собственную память своим нынешним противникам, которые опирались на документы его прежних противников. К тому же нынешними его противниками были компетентные органы высшего руководства его партии. А без партии он был бы никто: ради нее он просидел всю свою молодость в тюрьме, она расширила его кругозор и дала ему шанс взять на себя ответственное дело. Даже пульс его личной жизни бился в унисон с пульсом жизни партийной: в 1945 году он – делегат от коммунистической молодежи – на первом своем политическом собрании влюбился в делегатку от социал-демократов, дочку эмигрировавшего высокопоставленного функционера СДПГ. Вскоре, в год объединительного партийного съезда, он на ней женился.
Когда партия, с которой он был так внутренне спаян, отстранилась от него, это вызвало в его сознании раскол: для него существовали теперь две реальности. С одной стороны, господин Хабер знал, кем он на самом деле был, и те, кто относились к нему непредвзято, воспринимали его в этом качестве. Но его alter ego — партия – в течение года, прошедшего между его политическим падением и реабилитацией, перевела это «на самом деле» в сослагательное «как если бы я все еще был…». Такой раздвоенности он бы долго не вынес. Но в конце концов партия поверила ему, а не документам, и вернула ему его прежнее лицо, а кроме того открыла ему вторую, в политическом отношении более скромную, но для него почти столь же важную возможность карьеры интеллектуала. Таким образом, он снова смог продемонстрировать свои необычайные способности, а партия тем самым еще прочнее спаяла его жизнь со своей линией. Не удивительно, что математика и философа Хабера на старости лет заставили заниматься историей жертв нацистских преследований, т. е. репрезентацией антифашизма: его личность окружена ореолом страдания, а его воспоминания – правильные.
В отличие от него, другая респондентка в этой эмпирической группе, долгое время пробывшая освобожденным партработником, явно не настолько твердо уверена в подобной спайке собственной жизни с партией. Эта женщина, у которой в воспоминаниях встречались пробелы, тоже сформулировала фразу, необычайно удивившую меня своей раздвоенностью: «Мой отец не был таким политическим человеком, он был реальным».
Стоит разобраться, в чем смысл этого различия, которое проводит Пия Димер, женщина с двадцатилетним стажем политической деятельности в условиях реального социализма. Ей под восемьдесят, и на интервью она согласилась из чувства долга, потому что была секретарем парткома, а затем начальником отдела кадров на одном из народных предприятий, где мы проводили наши опросы. Говорила она неохотно. Постоянно клялась в верности родному государству – так, словно на ГДР напали враги. Часто ругала ФРГ, где она никогда не бывала. А о своих детях она говорить и вовсе не пожелала, потому что те занимали посты очень высокие, а значит – секретные. При этом она, несмотря на робость и негативизм, оказалась очень милой старушкой. Про нее мне все говорили, что она была прекрасным товарищем для всех сослуживцев: ей можно было выложить все, что на душе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу