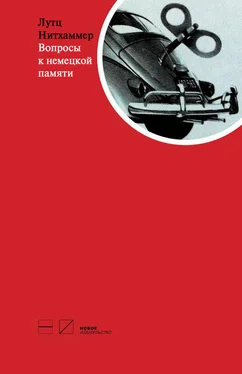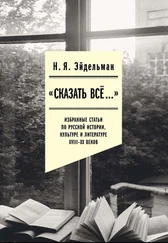После того как остались позади смертельные опасности, приключения и праздник возвращения домой, начинаются будни, послевоенная нужда, отсутствие цели в жизни: о них эта юная женщина, для которой именно служба на фронте оказалась временем всестороннего раскрытия ее личности, рассказывает так:
...
Это было […] время […] вообще-то было очень драматичное и впечатляющее… Потом в 1945 году началась эта животная жизнь. В общем, тогда я, вероятно, совершила большую ошибку, – наверное из-за того тоже, какое я образование получила, – [ошибка была в том] что я не думала о восстановлении. Это на самом деле была немножко такая жизнь без надежды на улучшение, а только – жить сегодняшним днем, наесться, [иметь] крышу над головой, одежду {54}.
Причина этой перемены настроения – от высокого напряжения и личной значимости к удручающей материальности, которая камнем висит на шее, – не только в том, что мир сузился до размеров домашнего рутинного быта.
Издали дом кажется чем-то таким, что обещает безопасность, уверенность в жизни, готовность помочь, а тем самым – и более благоприятные условия для того, чтобы как-то справиться с чрезвычайной экономической ситуацией. Но все же главное, ради чего люди возвращались домой через разрушенную страну, – это не экономические соображения, а регрессивная утопия, защищенность и простота мира их детства. Магнит под названием «там моя семья, мой дом» дает силы преодолевать все препятствия, превращает поездку в приключение с перспективой; возвращение домой означает личный конец войны, а значит – конец внутреннего движения, которое, помимо внешних усилий, влекло человека вперед. И вот там, где для него заканчивалась война, он в большинстве случаев из мира, рисовавшегося ему в мечтах, попадал в будничную реальность: жизнь без перспективы, в принудительной общности с родственниками, но без «семейной жизни», с напряжением всех сил, но без продвижения вперед.
...
Мы, конечно, очень рады были, когда все кончилось. Когда первые американцы-то шли по Крупп-штрассе, это было хорошо. Да, а потом для нас начался великий голод.
Иде Майстер в то время 19 лет. Ее мать, разведясь с мужем-плотником, работает в универмаге швеей. Через одну из своих клиенток – жену гауляйтера – она обеспечила дочке место ученицы в правлении фирмы DAF. А теперь она осталась без работы. У них живут уже восемь человек, в том числе жених сестры, дом которого разбомблен (сестра тоже безработная, поженятся они через два года), сестра матери с мужем-курсантом, которые были ранены во время одного из последних авианалетов и потеряли своего двухлетнего ребенка, и, наконец, еще две тетки, которые возвращаются на родину из Эйфеля, где были в эвакуации. Живут они у дедушки с бабушкой (дед работал у Круппа) в заводской квартире из трех комнат. Бабушка в больнице, она уже не может двигаться, через год она умрет. Потом из русского плена возвращается дядя, у которого не складываются отношения с дедушкой (дело доходит до ссоры в семье), но он получает ордер на квартиру, так что клан теперь хотя бы может разъехаться по двум домам. Потом госпожа Майстер находит место секретарши, так что ситуация становится чуть менее напряженной. Первые полтора года она в основном тянет на себе хозяйство. Больше всего ей потом вспоминается большая цинковая ванна, стоявшая в одной из трех комнат: это резервуар для воды, и в обязанности Иды входит все время держать ее наполненной, для чего надо приносить воду ведрами от гидранта, находящегося в соседнем квартале. Ее мать еще во время войны начала заниматься спекуляцией: покупателей она находит через своих клиентов в магазине. Остальное – голод… {55}
В поселке, где жил типографский рабочий Гюнтер Шмидт, проведший за свою принадлежность к социал-демократам пять лет в тюрьме и концлагере, во время бомбардировок в 1944 году было разрушено несколько домов, в том числе и его дом. Их с женой во время налета на месте не было, потому что они ездили в Южную Германию к сыну, которого рекомендовали в закрытое учебное заведение, готовившее кадры для руководства Третьего рейха, но он, к счастью, не выдержал вступительный экзамен.
...
У нас в доме были три огромные воронки от бомб. Квартира наша сохранилась, только окна все повылетели. У нас в гостиной была огромная дырка. Из всей семьи мы одни смогли спасти свое жилище… В 45– 46 годах нас жило в трех комнатах 12 человек: мой отец, мой шурин с женой, невестка с ребенком, из Гамбурга эвакуированные, еще один шурин и нас четверо. Потом жильцы над нами добровольно уступили одну комнату. С апреля 46-го мы наконец опять остались одни. Моя жена имела глупость взять на себя готовку на всю эту ораву. А не было же ничего, и они ругались, что они голодные. У нее сделался нервный срыв. А к тому же старший шурин на стройке получал надбавку за особо тяжелую работу и сам себе все покупал; но когда мы ели, он садился за стол со всеми! Я закупал продукты у крестьян, которых знал по заключению. Все шло в общий котел. Об этом забыли. С братьями и сестрами моей жены, кроме одной, мы больше не общаемся {56}.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу