Не менее насыщен положениями двойственными, внезапно опрокидывающимися и круг преобладающих у Бодлера умонастроений. Томительная скука источает апокалипсическую жуть («Фантастическая гравюра»), повергая в уныние, или, наоборот, прорастает яростным бунтом («Авель и Каин»), выплескивается желчной язвительностью («Плаванье»), побуждает устремляться помыслами в царство сладостных грез («Приглашение к путешествию»).
Зарницы мятежного «богоотступничества», когда с уст срываются клятвы переметнуться в стан князя тьмы («Отречение святого Петра», «Моление Сатане»), нет — нет да и рассекают свинцовую мглу тоски и сердечной растравы («Разбитый колокол», «Осенняя песня», «Дурной монах»), цепенящего страха перед необратимым ходом времени («Часы»), бреда среди бела дня («Семь стариков», «Скелет — землероб») — всех тех мучительных душевных перепутий, проникновенность передачи которых изнутри особенно способствовала распространению славы Бодлера на рубеже XIX–XX вв. Сугубо личное всякий раз повернуто у него так, чтобы вобрать истину черных часов своих сверстников («Полночная самопроверка»), да и трагического людского удела на земле («Крышка», «Бездна»).
В свою очередь, передуманное обретает у Бодлера всю свою полновесность, когда предстает прожитым и дает толчок к тому, чтобы прихотливо разматывался клубок воспоминаний, мечтаний, воображаемых метаморфоз непосредственно наблюдаемого. Метафорический оборот, навеянный предельно изощренной ассоциативной чувствительностью Бодлера к запахам, краскам, приметам вещей, мерцающе колышется между предметным обозначением и намекающей отсылкой к ощущениям, иносказанием и прямосказанием. Внешнее, созерцаемое в таких случаях овнутрено, а внутреннее, испытываемое сейчас — овнешнено:
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим — ярмо забот.
……………
Ты видишь — с высоты, скользя под облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь.
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный…
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С востока волоча свой саван погребальный?
(«Раздумье». Перевод М. Донского)
От терзаний подобных бесед наедине со своей болью Бодлер порой готов бежать «куда угодно, лишь бы прочь из здешнего мира». Затевая очередной такой побег в желанные дальние дали, где «все — порядок и красота, роскошь, нега, покой» («Приглашение к путешествию»), он знает, впрочем, что уезжать за тридевять земель не обязательно, да и заведомо чревато горчайшими разочарованиями: «искателя бесконечного — в предельности морей» под любыми широтами ждут встречи с самим собой — «оазисом ужаса в песчаности тоски» («Плаванье»). Зато совсем рядом как будто существует своя отдушина — волшебная вселенная грез наяву, где личность мнит себя спасшейся от здешней «юдоли», сподобившейся «благодати».
Бодлер был одним из первых, кто извлек из своих приключений в стране чудесных грез, как, впрочем, и из опьянений всех видов (книга «Искусственный рай», 1860), весьма горькие выводы:
Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.
(«Плавание». Перевод М. Цветаевой)
Урок тем более сокрушительный, что невыносимо скверное повседневье снова и снова распаляет жажду бегства у вернувшихся с пустыми руками из сказочного забытья, и тогда им ничего не остается, кроме тупикового исхода, обозначенного под самый занавес «Цветов Зла»:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода — куда черней чернила,
Знай — тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,
На дно твое нырнуть — Ад или Рай — едино! —
В неведомого глубь — чтоб новое обресть!
(«Плавание». Перевод М. Цветаевой)
Есть, однако, у Бодлера помимо сновидчества еще и другой путь избавления от затерянности в дебрях собственной скорби — путь, на сей раз не уводящий от жизни, а, напротив, к ней приводящий. Он пролегает через мостовые парижских улиц и площадей, где на каждом шагу могут случиться встречи, позволяющие забыть о своей хандре, мысленно переселиться в чужую оболочку, дорисовав в воображении участь случайного прохожего, чей облик почему — то вдруг выделился из толпы, запал в память («Рыжей нищенке», «Прохожей»). Так возникают в «Цветах Зла» городские зарисовки, в основном вынесенные в раздел «Парижские картины», — блистательное воплощение «духа современности» (modernité), которое сделало Бодлера лирическим первооткрывателем новейшей городской цивилизации.
Читать дальше
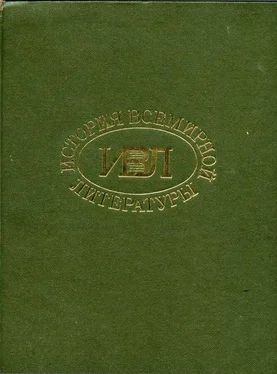


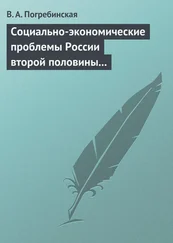



![Федор Достоевский - Призраки [Русская фантастическая проза второй половины XIX века]](/books/401736/fedor-dostoevskij-prizraki-russkaya-fantasticheskaya-thumb.webp)




