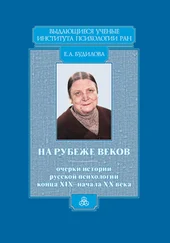Теперь спрашивается: что же наша революция кончилась благодаря описанным мною условиям чистой неудачей промышленного капитала или нет? Тут, став оппозицией из претендентов на власть, кадеты в значительной степени исказили облик истории, а от них заразились этим искажением и мы. Кадетская пресса того времени злобно шипела на победивший торговый капитал в лице Столыпина и в лице октябристов и правых, всячески стараясь изобразить не только в русской, но и в Заграничной печати, что в России — лжеконституционализм, что все это — один обман, что Столыпин — жалкий демагог, который держится исключительно при помощи штыков и шпиков, и что все его конституционные аллюры ни более ни менее, как приманка для того, чтобы обмануть заграничную буржуазию и получить деньги взаймы. Вот приблизительно какая схема итогов первой русской революции давалась кадетской прессой. Мы им вторили, потому что мы на своей шкуре действительно никакой конституции не чувствовали.
Партия тотчас же после разгона первой думы, а окончательно после разгона второй думы была загнана в подполье. За одну принадлежность к ней была установлена казенная цена, твердая цена. Эта цена заключалась в ссылке на поселение с лишение всех прав, а за попытки более энергичного участия в этой партии — даже на каторгу. Как вы знаете, работники военных организаций, работники окраин, товарищи латыши и поляки, ссылались на каторгу. Никакой свободой рабочей партии в эти годы и не пахло. Рабочая печать легально, открыто, как мы увидим потом, возродилась в 1911—1912 годах под влиянием того мощного давления, которое стало оказывать вновь пробудившееся рабочее движение на правительство. Тогда пришлось допустить «Правду», «Звезду» и т. д.; хотя их каждый день конфисковывали и приблизительно раз в месяц закрывали, но тем не менее рабочие пользовались в это время открыто легальной печатью. Но это было значительно позже, а в 1909 году, скажем, такой печати не было. Даже профсоюзы были на полулегальном положении. Их аккуратно разгоняли, а их руководителей ссылали после каждой удачно проведенной союзом забастовки. Другими словами, даже самая элементарная форма защиты экономических интересов рабочих фактически тоже была загнана в подполье, фактически тоже была переведена на нелегальное положение. Последнее, в скобках сказать, оказало громадное влияние на развитие революционного настроения, революционной идеологии среди рабочего класса. Этот экономизм, в котором еще приходится обвинять нашу рабочую массу в 1905 году, его как рукой сняло политикой столыпинского правительства в отношении профессиональных союзов. Когда рабочие увидели, что они глубочайшим образом заблуждались, воображая, что они кое-что завоевали в экономической области и могут это удержать, когда им показали на некоторых наглядных примерах, что невозможно бороться с хозяевами, не повалив сначала царя, тогда они все пошли по революционной дороге, и в результате получился февраль 1917 года. Но как-никак по отношению к нам была святая истина, что никакой конституции не существовало. Даже то, о чем мечтали бедные меньшевики в 1906—1907 годах, именно существование в России социал-демократии в условиях, аналогичных исключительным законам о социалистах времен Бисмарка, даже это оставалось мечтой, мечтой о золотом веке, ибо никакого сравнения, конечно, нельзя провести между порядками Бисмарка, когда людей ссылали из Гамбурга в Альтону или из Альтоны в Гамбург [7-1], и нашими порядками, когда людей за простую принадлежность к партии ссылали на поселение в Сибирь с лишением, всех прав, :а за более или менее активную агитацию — на каторгу. По отношению к рабочей партии, к рабочему движению не было не только никакого псевдоконституционализма, но вообще никакого конституционализма не было, просто никаких гарантий не было, и мы поэтому искренно повторяли вслед за кадетами, что у нас лжеконституционализм, что Столыпин надувает публику и т. д.
Но тем не менее те же самые кадеты великолепно пользовались этим «лжеконституционализмом» для себя, ибо для кадетов, для партии, выражавшей стремления промышленного капитализма, конституция, конечно, существовала. Во-первых, самая их партия если не была признана Столыпиным де-юре, — этого де-юре они несколько раз настойчиво добивались, но безуспешно, — то была признана де-факто. Кадетские комитеты существовали совершенно открыто, тогда как за принадлежность к социал-демократии ссылали. Был только раз процесс о принадлежности к кадетской партии, который кончился совершенной чепухой, кончился штрафом денежным, кажется, даже не заключением. Это был единственный случай и, как единственный случай, как блестящее исключение, оправдывал правило. Кадетская пресса была более свободна, чем, скажем, прусская буржуазная печать во времена Бисмарка. Так хлестать правительство, как у нас хлестали Столыпина и его кабинет в кадетских газетах в 1909 — 1910 году, никакая прусская газета не осмелилась бы. Тон прусской печати 60-х — 70-х годов был куда почтительнее, чем тон нашей буржуазной печати. Таким образом кадеты имели все, что нужно, — тут был молчаливый сговор между ними и начальством. Кадетские книги по истории революционного движения свободно выходили, даже если они заключали в себе вредные с точки зрения царской прокуратуры цитаты, а как только появлялись большевистские книги, их моментально прихлопывали, хотя они были написаны гораздо осторожнее в смысле внешнего тона, чем соответствующие кадетские книги. После немногих недоразумений с кадетами в 1906 году, когда Столыпин, обозлившись на них за первую думу, немножко их прижал, кадетам позволяли жить и дышать совершенно свободно, и по отношению к буржуазии и к буржуазному движению конституция, несомненно, существовала. Это первое, что приходится подчеркнуть по отношению к буржуазному движению. Первая революция кончилась не полной неудачей, — она кончилась компромиссом, в области так называемого субъективного публичною права, т.е. в области тех конституционных гарантий, которые получила к.-д. партия.
Читать дальше
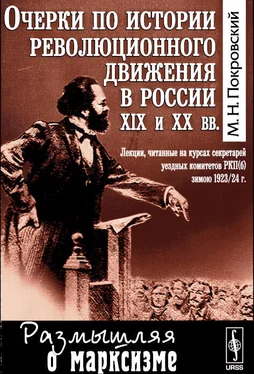






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)