Если вы от этого перейдете к темпу развития нашей промышленности в конце эпохи великих реформ, в 60 — 70-х годах, то тут получатся цифры совсем другие, совсем на эти не похожие. В 1867 г. было переработано всеми русскими фабриками хлопка 3298 тыс. пуд. (54 тыс. тонн); в 1868 г. — 2556 тыс. пуд. (41,8 тыс. тонн); в 1869 г. — 3208 тыс. пуд. (52,5 тыс. тонн); в 1870 г. — 2801 тыс. пуд. (45,8 тыс. тонн); в 1871 г. — 4165 тыс. пуд. (68,2 тыс. тонн); в 1872 г. — опять 3606 тыс. пуд. (59 тыс. тонн); в 1873 г. — 3530 тыс. пуд. (57,8 тыс. тонн). Таким образом вы видите, что мы все время танцуем около 3 миллионов и до 4 миллионов долезаем только однажды, для того чтобы опять-таки скатиться к этим роковым 3 миллионам, — картина форменного застоя. В металлургии дело обстоит немножко иначе, несколько лучше. Это объясняется тем, что, как вы знаете, в 60-х и начале 70-х годов очень быстрым темпом шло железнодорожное строительство, были нужны рельсы, и это именно подгоняло русскую металлургию, но все-таки и тут мы имеем темп роста очень «спокойный». В 1867 г. — 17 1/ 2милл. пуд. (288,4 тыс. тонн) чугуна; в 1868 г. — 19,8 милл. пуд. (311,3 тыс. тонн); в 1869 г. — 20 милл. пуд. (327,6 тыс. тонн); в 1870 г. — 22 милл. пуд. (360,3 тыс. тонн); в 1871 г. тоже 22 милл. пуд. (360,3 тыс. тонн); в 1872 г. — 24 милл. пуд. (393,1 тыс. тонн); в 1873 г. — 23 милл. пуд. (376,7 тыс. тонн). Словом, тут, конечно, не топтанье на месте, как с текстильной промышленностью, а движение вперед, но движение очень медленное и «спокойное». Обыкновенно на это отвечают, — я сам на это отвечал в прошлом году в Свердловском университете, — главным образом, условиями освобождения крестьян. Вы знаете, что крестьяне были освобождены в результате компромисса между торговым и промышленным капиталом, при чем львиная доля добычи досталась именно торговому капиталу. Крестьяне были освобождены так, что торговый капитал получил возможность выкачивать из страны гораздо больше прибавочного продукта, нежели он выкачивал раньше. И вот для того, чтобы удобнее было торговому капиталу оперировать, были пущены в ход два средства. Во-первых, от крепостного права было оставлено как можно больше, и, в частности, крестьяне были оставлены на положении полусвободных мелких производителей, к которым торговый капитал, в силу их полузакрепощенности, мог легко подойти. Для этого крестьянин был прикреплен к деревне, как вы знаете, не мог уйти от мира, был связан круговой порукой и т. д. Это одна сторона дела; а другая сторона дела: был пущен в ход налоговый пресс, были увеличены налоги, которые и без того уже сильно увеличились благодаря выкупным платежам. Местами они превосходили 100% чистого дохода крестьянина с земли, и этот налоговый пресс заставлял крестьянина возможно большее количество своего прибавочного продукта реализовать, а во многих случаях заставлял выпускать на рынок и долю продукта необходимого; не доедать, не допивать, а тем не менее все-таки продавать и продавать во что бы то ни стало. В этом выразился примат, перевес торгового капитала при освобождении крестьян. И вот отвечают на это, — и я сам отвечал на это, и, конечно, этот ответ, в общем и целом, правильный: при таких условиях внутренний рынок не мог расти сколько-нибудь быстро, и интенсивно; рост его очень замедлялся, а благодаря этому медленно росла и наша промышленность. Как медленно, — позвольте привести вам очень выразительные цифры относительно капиталов, вложенных в нашу промышленность в первые 12 лет после крестьянской реформы. Из всех тогдашних капиталов акционерных предприятий, приблизительно 1 200 милл. рублей, только 130 милл. было вложено в промышленность, при чем на ткацкие фабрики (нет надобности говорить, что текстильная индустрия наиболее характерна для внутреннего рынка) пришлось только 6 милл. руб.
Таким образом, наша ткацкая промышленность почти не росла. И вот, чрезвычайно характерно, что даже с внутренним рынком, столь узким, какой был создан в результате реформы 1861 года, туземная промышленность не справлялась. Это неопровержимо, доказывается цифрами английского ввоза в Россию в это же самое время. В 1867 г. англичане ввезли в Россию менее чем на 4 милл. ф. стерлингов, в 1868 г. — на 4 1/ 2милл. фунта ст., в 1869 г. — на 6 1/ 2милл. ф. ст., в 1870 г. — почти на 7 милл, ф. ст. и т. д., до 1873-г: — это был максимум, когда они ввезли почти на 9 милл. ф. стерлингов. Другими, словами, ввоз 1873 года был слишком вдвое больше ввоза 1867 г.. — тут застоя не было: тут дело шло очень бодрым темпом, и англичане с каждым годом ввозили товаров в Россию все больше и больше. Это, повторяю, неопровержимо доказывает, что русская промышленность развивалась туго даже в отношении к суженному «освобождением» крестьян, или, вернее сказать, недостаточно расширенному освобождением крестьян внутреннему рынку; даже этого тесного внутреннего рынка она обслужить не могла.
Читать дальше
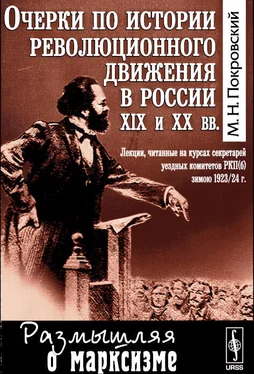






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)



