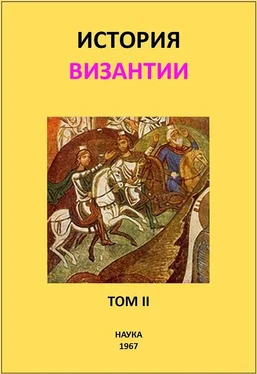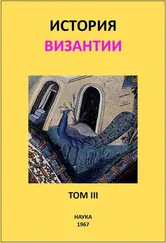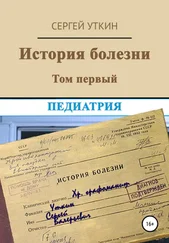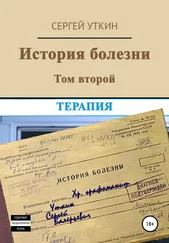Событиям VIII–IX вв. (особенно подвигам монахов-иконопочитателей) посвящена обширная агиографическая литература, частично вышедшая из-под пера современников, частично же написанная в более позднее время [28] Общий указатель византийской агиографии: Bibliotheca Hagiographica graeca, vol. I–III. Bruxelles, 1957. О житиях VIII–IX вв. см. X. Лопapeв. Византийские жития святых VIII и IX вв. Пг., 1914; G. da Costa-Louillet. Saints de Constantinople aux VIII-e, IX-e et X-e siecles. — Byz., XXIV–XXVII, 1954–1957; eadein. Saints de Sicile et d'ltalie Meridionale aux VIII-e, IX-eet X-e siecles. — Byz., XXIX–XXX, 1959–1960; eadem. Saints de Grece aux VIII-e, IX-e et X-e siecles. — Byz., XXXI, 1961.: См. также А. П. Рyдаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917.
. В житиях иконопочитательская и сугубо монашеская тенденция обычно берет верх (хотя некоторые жития остаются безразличными к иконоборческим спорам) и ведет к одностороннему освещению политической борьбы; авторы житий очень часто некритически передают устные предания, склонны применять штампы — образы, переходящие из одного жития в другое; все это крайне затрудняет использование агиографии как исторического источника. Вместе с тем жития нередко передают интересные бытовые детали (например «Житие Филарета Милостивого» содержит уникальные сведения о византийской деревне VIII в. [29] Издано: А. А. Васильев. Житие Филарета Милостивого. — ИРАИК, V, 1900, стр. 64–86; М. Н. Fоurmу, М. Lerоу. La vie de S. Philarete. — Byz., IX, 1934, p. 85–170.
), характеризуют внутреннюю борьбу («Житие Стефана Нового»), сообщают подробности о славянских вторжениях («Чудеса св. Димитрия»), о набегах русских («Житие Георгия Амастридского»), о нападении арабов («Сказание о 42 аморийских мучениках»).
Существенные сведения для изучения византийской истории (преимущественно истории взаимоотношений Византии с соседними странами) сообщают арабские и армянские авторы, а также западные хронисты. Для истории арабо-византийских войн особенно важен писавший в начале X в. Табари [30] Перевод отрывков из Табари см. А. А. Васильев. Византия и арабы (ч. I). СПб., 1900, приложение, стр. 12–63; А. Vasilie v. Byzance et les arabes, t. I. Bruxelles, 1935, p. 278–326. Там же приведены и фрагменты из других арабских авторов.
; для характеристики византийской административной системы — географ IX в. Ибн-Хордадбех [31] Перевод соответствующих мест см. Н. Gelzer. Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung. Leipzig, 1899, S. 81–126.
. Некоторые сведения можно найти и у позднего автора — Михаила Сирийца, использовавшего труд монофисита Дионисия Тельмахрского, жившего во времена иконоборчества, при халифе Мутасиме [32] Miсhelle Sуrien. Chronique, t. I–IV. Ed. et trad, par J. B. Chabot. Paris, 1893–1306.
. Армянские авторы важны для изучения восточной политики Византии [33] См. Гевонд. История халифов. СПб., 1862.
, и особенно павликианства [34] P. M. Бapтикян. Источники для изучения истории павликианского движения. Ереван, 1961.
.
Западные хронисты (особенно итальянские) неоднократно касались вопросов, связанных с историей Византии и ее взаимоотношениями с папством, арабами, итальянскими княжествами и франками [35] Обзор западных источников см. Wattenbach-Levison. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. H. 2–3. Weimar, 1953–1957.
. Много споров вызывают сохранившиеся в греческом переводе письма папы Григория II императору Льву III. В 80-х годах XIX в., когда очень популярно было гиперкритическое отношение к источникам и каждая непоследовательность считалась признаком неподлинности, эти письма расценивались как подложные; сейчас их считают подлинными, но подвергшимися некоторым интерполяциям [36] J. D. Mansi. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XII, p 959. CM. V. Grumel. Notes d'histoire et de philologie byzantines. — ЕО, 39, 1936, p. 234–240.
.
Общий характер источников довольно однообразен; полностью отсутствует иконоборческая историография и публицистика, о характере которой можно только строить предположения на основании полемических сочинений иконопочитателей. Очень мало данных о состоянии производительных сил и о социальных отношениях в городе и деревне. Очень часто приходится пользоваться более поздними источниками и отрывочными данными иноязычных историков. Такое состояние источников создает при решении многих проблем труднопреодолимые осложнения и способствует возникновению взаимно противоречащих гипотез и концепций.
Глава 2
Социально-экономические отношения и государственный строй в Византии в конце VII — середине IX в.
Аграрные отношения
(Кира Александровна Осипова)
У нас нет точных статистических данных, которые позволили бы в цифрах выразить перемены, совершившиеся в византийской деревне на протяжении VII в. Скудость источников заставляет скорее предполагать, нежели доказывать, скорее догадываться, нежели с твердой уверенностью заявлять об этих переменах. Скудость источников оставляет бесчисленные лазейки для скептиков, ставящих под сомнение самую возможность коренных сдвигов и допускающих в лучшем случае лишь некоторые количественные изменения [37] Наиболее последовательно против тезиса о коренной перестройке аграрных отношений в VII столетии выступают в настоящее время П. Лемерль и И. Ка-раяннопулос. См. P. Lemеrlе. Esquisse pour une histoire agraire de Byzance. — RH, 219–220 1958; J. Karayannopulos. Uber die vermeintliche Tatigkeit des Kaisers Herakleios. — JOBG, 10, 1961.
. И все-таки мы можем проследить значительные перемены в аграрном строе империи.
Читать дальше