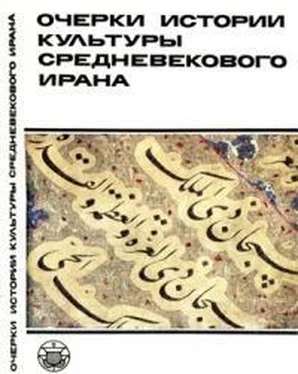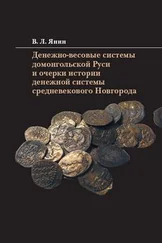Рукописный период в истории персидской книги имеет исключительное значение еще и потому, что книгопечатание в Иране появилось сравнительно недавно — в первой четверти XIX в. [2] Первая отпечатанная наборным шрифтом в Тебризе книга датируется июлем 1818 г. (Джихадийа — сочинение Мирзы Иса Ка'им Макама о войне Ирана с Россией). Как показала О. П. Щеглова, сообщение И. Афшара о том, что первая наборная книга — Фатх-наме ("Книга о победе") — была напечатана в Тебризе в 1812 г., недостоверно [152, с. 26; ср. также 11, I, с. 229-234
]. Но под воздействием многовековой традиции и прочно устоявшейся привычки к рукописи, ее внешнему виду, форме и структуре наборный способ печатания не сразу получил распространение, а на первых порах привился литографский, послуживший как бы переходным этапом к типографскому. Можно предположить, что не последнюю, роль в этом сыграли также и интересы весьма многочисленной армии мастеров рукописной книги, главным образом переписчиков, которые начали исполнять заказы владельцев литопечатен и сыграли активную роль в производстве литографий [3] Заметим, что с введением литографского способа книгопечатания рукопись в Иране не только продолжает существовать, но даже успешно конкурирует с печатными изданиями — явление, характерное вообще для периода начальных шагов книгопечатания как в Западной Европе, так и в России
.
* * *
В настоящее время мы являемся свидетелями устойчивого и все более растущего интереса мировой науки к истории книжности [4] Общие проблемы производства рукописной книги рассмотрены в книгах: [165; 166] (оба исследования снабжены подробнейшей библиографией вопроса) [79; 121; 72; 107]. О мусульманской рукописи в общем плане см. [154]. Библиографию (соответствующие разделы) см. [162; также 188
]. Интерес к социальному звучанию книги, ее роли и значению в жизни общества на разных ступенях его развития не оставил в стороне и персидскую средневековую книгу [5] За последние двадцать лет значительный вклад в изучение персидской рукописи и книжности в целом внесли иранские ученые М. Минуви, С. Нафиси, И. Афшар, М. Байани, М. Т. Данишпажух, Дж. Матини, К. Ра'на Хусайни, Р. Хумайунфаррух, а также афганский специалист А. Хабиби. Из советских иранистов к общим проблемам рукописи обращались А. А. Семенов, А. Ю. Казиев и Г. А. Костыгова
. Рукопись стала предметом исследования, она помогает нам выяснить те вопросы, о которых либо вообще не говорят, либо весьма глухо сообщают нарративные источники. Например, только простая и далекая от полноты и совершенства статистика, составленная современным иранским ученым Ахмадом Мунзави в 1971 г. на базе 60 тыс. списков [104, с. 283-292; 103, с. 303-309], позволяет поставить вопросы по таким интересным и сложным для решения проблемам, как степень грамотности населения, развитие книжности, соотношение светской и религиозной литератур, популярность отдельных произведений либо отдельных литературных направлений и др. (все эти вопросы в той или иной степени будут рассмотрены нами в процессе изложения). Конечно, не претендуя на их сколько-нибудь полное разрешение, так как, повторяем, изучение персидской рукописной книги началось недавно, мы полагаем, что постановка этих проблем уже назрела. Орновное наше внимание привлекают рукописи, а также ее творцы и создатели, заказчики и потребители.
Наконец, в процессе изложения мы будем вести рассказ о наиболее известных представителях "книжного рукоделия" — каллиграфах, художниках, оформителях, переплетчиках. Это объясняется тем, что здесь мы полностью зависим от сведений, сообщаемых нам средневековыми источниками, которые, естественно, уделяли внимание только выдающимся мастерам, работавшим при дворах местных правителей и наместников. О мастерах средней руки и заурядных переписчиках доступные нам памятники не говорят, хотя именно труду этих безвестных мастеров в первую очередь обязана персидская книжность. Мы — по мере возможности — будем касаться этих писцов, используя данные колофонов просмотренных нами рукописей. (Для того чтобы более определенно говорить об этих мастерах, необходимо изучение колофонов рукописей — хотя бы через посредство каталогов — большей части собраний Индии, Ирана, Ирака и Турции, что в настоящее время практически просто невозможно осуществить, потому что они еще ждут своих каталогизаторов.)
Словом, рассматривая рукописную книгу, с одной стороны, как результат культурной деятельности человеческого общества, а с другой — как инструмент, способствующий развитию духовной культуры этого общества, мы обратимся лишь к некоторым вопросам, связанным с ролью рукописи в жизни социума. При этом мы отчетливо сознаем, что история книги полиаспектна и требует комплексного подхода для ее разрешения.
Читать дальше