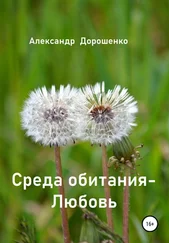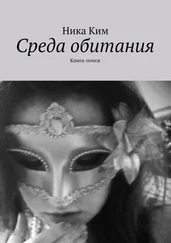В поэтических антологиях для возвеличивания правителя была избрана природа, находящаяся в благодатном и безвредном для человека состоянии. Поэтам и в голову не могло прийти продекламировать нечто вроде: остановись, мгновенье, ты ужасно! Вместо этого они останавливали мгновение «прекрасное». Прекрасное чем? Прежде всего имелось в виду правильное чередование четырех времен года и сопутствующих им маркеров – растительных и животных (в основном это были певчие птицы). Чиновников-литераторов регулярно призывали во дворец на пир или же на поэтический турнир. Весьма часто указывается, что литераторов призывали числом 6–7 человек, что, видимо, должно было напоминать о китайских «семи мудрецах из сосновой рощи» (о том, что с числом «шесть-семь» человек имеет именно такие ассоциации, говорится в предисловии к стихам Фудзивара-но Умакаи в «Кайфусо»). На пиру им от имени императора объявляли тему (почти всегда это было то или иное природное явление, связанное с тем или иным временем года) для сочинительства. Так, император Дзюнна любовался цветением сакуры во дворце и одновременно велел сочинять стихи, посвященные сакуре. При этом он щедро угощал литераторов вином, так что они, как отмечает летописец, «ужасно напились» (в данном контексте это не осуждение бытового пьянства, а, скорее, указание на щедрость государя, который в конце поэтического мероприятия привычно жалует подарки своим «тепленьким» подданным). Спустя почти пару месяцев император велит сочинять стихи теперь уже про сосну и бамбук в летний сезон, который только что наступил [162].
Таким образом, чиновникам-литераторам приказывали сочинять стихи. Для выполнения этого повеления они были обязаны владеть поэтическим языком и каноном, которому обучали как в государственных чиновничьих школах (китайские стихи), так и в процессе домашнего образования (японские стихи). Сочиняя по приказу и в соответствии с каноном, чиновники демонстрировали лояльность – стихотворчество было одним из его проявлений. Чиновники были освобождены от «вульгарных» налогов, вместо этого они облагались налогом поэтическим, они подносили стихи императору, демонстрируя таким образом свою лояльность и получая за нее немедленное вознаграждение (как неизменно отмечают хроники, «в соответствии с рангом»). Так происходил обмен услугами, конвертация слова в материю (обычным подарком были именно ткань или изделия из нее). Все вместе это служило ублажению природных сил в лице Неба, синтоистских божеств, будд.
Организуя поэтические сборища, император следовал за идеальным (по-своему утопическим) природным ритмом, утверждал его. Показательно, что хроника при всей ее чуткости к погодным проявлениям никогда не отмечает, какая стояла погода в день поэтических упражнений – само сочинение стихов создавало нужную атмосферу, которую с некоторой натяжкой можно охарактеризовать как «искусственный климат». В этот день никогда не идет дождь или снег, не случаются ураганы и землетрясения. В более позднее время стихи, сочиненные в присутствии императора, получают название «харэ-но ута», т. е. «песни, сочиненные в ясную погоду». Таким образом, предполагалось, что сочинение в присутствии императора способно прояснить н(Н)ебо. Практическим результатом такого хода мыслей стала тенденция, направленная на проведение действ с участием императора в закрытых помещениях [163]. Это был адекватный и асимметричный ответ на капризы реальной природы. При таком подходе император автоматически превращался в подателя вёдра, защиту, «крышующую» ближайших подданных от дождя, урагана, ветра.
Пики поэтических сборищ под эгидой императора приходились на весну и осень. Около 20-го дня первой луны полагалось слагать стихи, посвященные весне. Такое поэтическое собрание являлось одним из элементов многодневных обрядов, посвященных наступлению нового года, т. е. весны. В этот день государь приказывал сочинять на определенную тему. Так, император Ниммё повелевает слагать стихи на тему «ранневесенние цветы и луна», «наступление весны», «начало весны», «сто цветов и сакэ» (количество сакэ не указывается), «красная слива, расцветшая перед дворцом». Знаки весны буквально проявлялись (высыпались) на теле – во время весеннего пира государь повелевает его участникам украсить свои волосы ветками цветущей сливы [164].
Благодаря государеву пиру мы впервые встречаемся с упоминанием сакуры в качестве символа весны, цветы которой сделаются впоследствии «национальным цветком» Японии. Именно цветущую сакуру, росшую перед покоями императрицы, повелел воспевать весной 831 г. государь Дзюнна на устроенном им пиру [165]. Это повеление было частью процесса по признанию сакуры символом весны. До этого времени в качестве такого символа выступала слива – дерево китайского происхождения. Считается, что в правление Ниммё слива, росшая перед императорским дворцом Сисиндэн, засохла и вместо нее посадили сакуру. Вместе с вечнозеленым деревом татибана (разновидность мандарина) они образовывали пару, выражавшую идею перемен и вечности [166].
Читать дальше
![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)

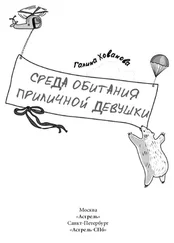
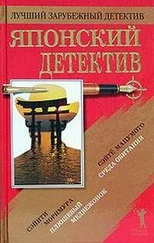
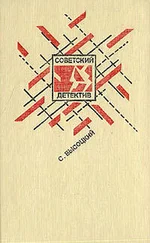
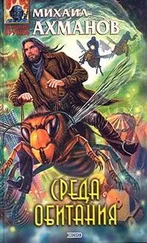
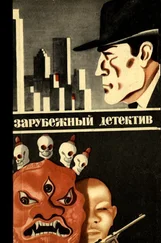
![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)