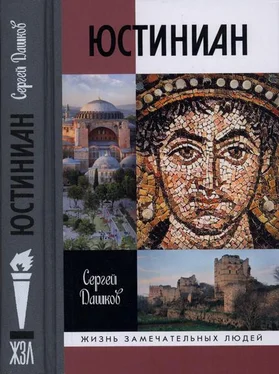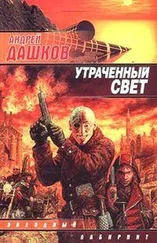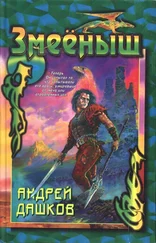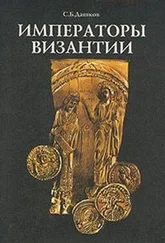Сложно предположить отсутствие у маленьких византийцев игрушечного оружия — щита, копья, деревянного меча и лука со стрелами, — особенно если в семье были служившие в армии (у Петра Савватия в армии служил дядя Юстин).
В сельской местности играли с животными: гусями, курами, цесарками, с любимым щенком, барашком или поросенком.
На ослике, воле, муле или лошади мальчики учились ездить (как верхом, так и в повозке): умение управлять животным являлось жизненно необходимым навыком. Вряд ли бы византийский ребенок удержался от соблазна покататься верхом на козе, овце, незлой собаке или запрячь в игрушечную повозку гуся.
В семьях более или менее обеспеченных, особенно в городах, девочек держали преимущественно дома, на женской половине. Мальчики же могли гулять, встречаться со сверстниками, играть с ними, искать птичьи яйца, ловить птиц, лягушек и ящериц, совершать набеги на окрестные сады, огороды и виноградники. Августин Блаженный, росший в конце IV века в нумидийском Тагасте, вспоминает в более чем серьезной «Исповеди» о своих детских забавах и прегрешениях: «Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить — мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такою же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, а не уступал. И это детская невинность? Нет, Господи, нет! позволь мне сказать это, Боже мой, все это одинаково: в начале жизни — воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взрослым — префекты, цари, золото, поместья, рабы, — в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания» [77] Августин . Исповедь. 1, XIX. С. 73.
. Во времена Петра Савватия с мальчишками Дардании все было примерно так же.
Зимы в тех местах были мягкие, но, когда выпадал снег, дети могли делать горки, играть в снежки, строить «снежные крепости», а случись замерзнуть реке или озеру — скользить по льду. Мальчишки запускали по воде «блинчики» из камней. До нашего времени дошло описание этой игры, сделанное автором III века Минуцием Феликсом: нужно было, «набрав на берегу моря камешков, обточенных и выглаженных волнами, взять такой камешек пальцами и, держа его плоской поверхностью параллельно земле, пустить затем наискось книзу, чтобы он как можно дальше летел, кружась над водой, скользил над самой поверхностью моря, постепенно падая и в то же время показываясь над самыми гребнями, все время подпрыгивая вверх; тот считается победителем, чей камешек пролетит дальше и чаще выскакивает из воды» [78] Сергеенко , 2000. С. 152.
. Как видим, за последние две тысячи лет нехитрое развлечение не претерпело никаких изменений.
Дети боролись, бегали наперегонки, дрались. Игры могли быть и опасными. К примеру, петроболия — организованное метание камней в группу противников.
Как и сегодня, ребята могли выдумывать игры, имитирующие поведение взрослых в важных ситуациях: семейная жизнь, война, охота, суд, император и его двор, торжественная процессия и т. д. Например, на сохранившейся мозаике с виллы эпохи домината (Дель Казале близ города Пьяцца Армерина на Сицилии) изображена игра в скачки на ипподроме: мальчики едут вдоль игрушечного разделительного барьера, только в колесницы запряжены попарно всякие птицы — голуби, утки, фламинго и даже какие-то странные, похожие на страусов. Иоанн Мосх в «Луге духовном» (начало VII века) рассказывает о чуде, произошедшем, когда дети, пасшие скот, для развлечения разыграли литургию: «…поставили одного в чине священника, двух других произвели в диаконы. Нашли гладкий камень и начали игру: на камне, как на жертвеннике, положили хлеб и в глиняном кувшине вино. Священник стал перед жертвенником, а диаконы — по сторонам. Священник произносил молитвы св. возношения, а диаконы махали поясами, будто рипидами. В священники избран был такой, который хорошо знал слова молитвы, так как в церкви вошел в употребление обычай, чтобы дети во время литургии стояли перед святилищем и первые, после духовенства, причащались св. Таин. В иных местах священники имеют обычай громко произносить молитвы св. возношения, почему, часто слыша, дети могли знать их наизусть» [79] Иоанн Мосх . Луг духовный, история 196. Иоанн Мосх рассказывает аналогичную историю и про св. Афанасия Александрийского, сыгравшего значительную роль в борьбе с арианством в начале IV в. Ее окончание получше: епископ, увидев, что игравшие на морском берегу «по обычаю» дети разыгрывают священнодействия и даже проведение крещения, собрал совещание с клиром и постановил — вторично не совершать крещение над теми, кто был уже крещен (в конце III в. детей, видимо, крестили позднее, не в младенчестве), а остальных воспитывать «в наставлении и наказании Господнем». Афанасий же, поставленный детьми «епископом», стал впоследствии патриархом Александрии (Там же, история 197).
. В данном случае шуточная церемония закончилась вполне серьезно и страшно: с неба сошел огонь, испепелив и хлеб, и камень, а дети едва не погибли. Прибывший разбираться с чудом епископ «назначил детей в иноки и на самом месте устроил знаменитый монастырь». История поучительная, но нам важно свидетельство современника о том, что дети сызмальства ходили в церковь и некоторые, кто посмышленее, могли на слух выучить литургический чин. Это, кстати, означало, что они уже в малолетстве были крещены (некрещеные к литургии не допускались).
Читать дальше