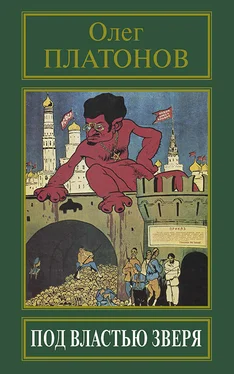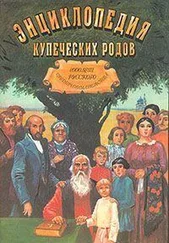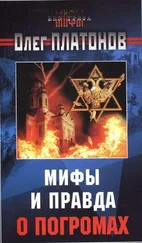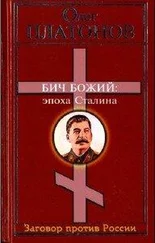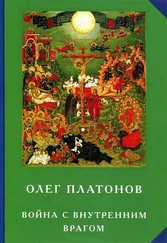Напротив, заготовительные цены на сельскохозяйственные товары государство устанавливало на низком уровне. С 1924 года существовали так называемые лимитные цены, выше которых государственные и кооперативные (вот она, экономическая свобода!) заготовители не имели права платить.
Используя высокое налогообложение и непомерно высокие цены на промышленные товары, государство изымало у крестьянства значительные средства для своих целей. Одновременно оно производило кредитование крестьянства под проценты, близкие к ростовщическим. До 1925 года краткосрочный кредит выдавался из расчета 12 процентов годовых, долгосрочный — 7 процентов (с ноября 1925 года краткосрочный — 10 процентов, долгосрочный — 6 процентов. [51] ИСЭ СССР. Т.2. с.47.
Налоги, цены и кредиты ставили крестьянство в полную экономическую зависимость от государства.
По-прежнему, как и в годы гражданской войны, государство организует и поддерживает в деревне своих агентов в лице пролетарских, полупролетарских и люмпен-пролетарских слоев населения. Им предоставляются различные привилегии и льготы в налогообложении и ценах. Таким образом, поощряются нетрудовые элементы, намеренно тормозилось развитие самых энергичных и трудоспособных крестьян.
В целом политика государства в деревне в 1921–1927 годах строилась на двух основах — осуществление полной экономической и политической зависимости крестьян от государства посредством налогов, цен и кредита, и ставка на пролетарские, полупролетарские и люмпен-пролетарские слои сельского населения как на опору государства.
ставка государства на пролетарские, зачастую, по сути дела, деклассированные, оторвавшиеся от крестьянского труда слои сельского населения, противопоставление их настоящим крестьянским труженикам использовались этими слоями для настоящего паразитирования. М.Калинин отмечает характерную черту: «…Около власти такая беднота, которая прикрывается ее флагом для своих частных интересов. Беднота формальная. Оглянитесь кругом села или волости: кому попала реквизированная изба, корова, имущество совхозов? Вам перечислят по пальцам, что самое ценное заполучили довольно далекие от советской власти элементы. Да и реквизиции-то подвергалась иногда действительная беднота. Пример: старуха — ее сыновья погибли на фронтах — осталась одна в двух пустых избах, от нее берут избу и дают молодцу, который удачно ускользнул с боевой линии, у него действительно не было избы. сейчас старуха ходит по миру, а цепкий крестьянин пробивается в середняки и выше» . [52] Калинин М. Вопросы советского строительства. М., 1958. с.174.
« Мужики в… ( двадцатые годы. — О.П. ) недоумевали по поводу нижеследующей, непонятной им, проблематической дилеммы, — отмечал писатель Б. Пильняк. — … В непонятности проблемы мужики делились — пятьдесят, примерно, процентов и пятьдесят. Пятьдесят процентов мужиков вставали в три часа утра и ложились спать в одиннадцать вечера, и работали у них все, от мала до велика, не покладая рук; ежели они покупали телку, они десять раз примеривались, прежде чем купить; хворостину с дороги они тащили в дом; избы у них были исправны как телеги; скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши; продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись; и считались они: врагами революции, ни более, ни менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, — больше ничего не имели; весной им из города от государства давалась семссуда, половину семссуды они поедали, ибо своего хлеба не было, — другую половину рассеивали — колос к колосу, как голос от голоса; осенью у них поэтому ничего не родилось, — они объясняли властям недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец, — государство снимало с них продналог, и семссуду, — и они считались: друзьями революции. Мужики из «врагов» по поводу «друзей» утверждали, что процентов тридцать пять друзей — пьяницы (и тут, конечно, трудно установить — нищета ли от пьянства, пьянство ли от нищеты) — процентов пять — не везет (авось не только выручает!) — а шестьдесят процентов — бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. «Врагов» по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в «друзей», а тем самым лишить их возможности платить продналог, избы их превращая в состояние подбитое ветром ». [53] Пильняк Б. Красное Дерево. Дружба народов. 1989. № 1 с.146.
Читать дальше