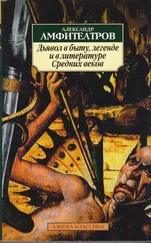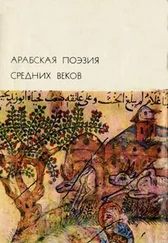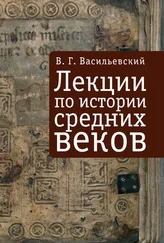Как мы упоминали, войны в Средневековье велись сравнительно небольшими профессиональными армиями, в основном дворянскими — военное ремесло в феодальном обществе являлось привилегией благородного меньшинства. Лишь в итальянских городах-республиках наподобие Генуи или Венеции в армию на постоянной основе привлекались все граждане — вспомним о скандально знаменитых генуэзских арбалетчиках, во многом благодаря которым король Франции потерпел поражение при Креси.
Столетняя война совершает резкий переворот в сознании, прежде всего французов — исходно феодальный конфликт между Плантагенетами и Валуа со временем меняет форму, превращаясь в национально-освободительный, то есть ранее в Европе невиданный! В этом состоит одна из важнейших особенностей Столетней войны — подданные французской короны, христиане, как и все прочие европейцы, менее чем за один век начали ощущать себя именно что французами: нацией, сплоченной единой идеей изгнания захватчиков обратно на Альбион.
Англичане во время взятия Кале или сражения при Креси еще не были оккупантами в общеизвестном смысле этого слова, но к началу XV века они таковыми становятся. Как писал исследователь Жан Фавье, «…средний француз из города или деревни поначалу ненавидел англичанина за то, что тот — солдат, а потом за то, что тот — англичанин». Очень скоро ситуация начала меняться, и военные короля Эдуарда начинают восприниматься как захватчики, посягающие на французскую национальную идентичность…
Но и это еще не все. Столетняя война становится всеобщей — что также прежде было неизвестно Средневековью! В старые добрые времена феодальный конфликт заканчивался сравнительно быстро и не нес угрозы целому государству, кроме того, имущество старались не уничтожать и беречь — оно должно было перейти во владение другого сеньора. Ныне положение изменилось: англичане жгли урожаи, что означало последующий голод; восстанавливать разрушенное не имело смысла — не в этом году, так в следующем захватчики обязательно появятся снова. Война из события чрезвычайного и не самого частого становится повседневной реальностью, продолжаясь годами и десятилетиями, что вело к дальнейшему усугублению и без того ужасного экономического положения Франции, вызванного недавним ураганом Черной смерти. Вновь дадим слово Жану Фавье:
«…Сожженная рига, которую не отстраивали, опасаясь нового налета через год или десять, означала, что обработка земель здесь сократится надолго. Судно, затопленное в фарватере, разрушенный мост, разоренная мельница означали не просто временное несчастье, а паралич всей экономической жизни области».
Кроме того, Франции не повезло с монархом — примерно так же, как в свое время не повезло Англии с Ричардом Львиное Сердце, разорившим королевство ради своих рыцарских причуд, начиная от Третьего крестового похода и заканчивая авантюрами на континенте. Ричард был рыцарем, но не государственным деятелем, а его противник Филипп II Август являлся, прежде всего, очень талантливым политиком и администратором, что позволило в начале XIII века очистить от англичан огромные области Франции и заложить фундамент дальнейшего величия королевства.
Увы, но Филипп VI де Валуа так и не осознал, что с началом Столетней войны и после Черной смерти ситуация кардинально изменилась и ему стоило бы последовать примеру своего мудрого пращура, — он предпочел остаться рыцарем, а не королем. Франция же в конце 1340-х годов находилась на последней грани, особенно если учитывать все недавние поражения и нарастающий внутренний политический кризис — король терял уважение знати, а Генеральные штаты, после позорной сдачи Кале и отказа Филиппа спасти своих подданных, в 1347 году ясно выразили свое отношение к монарху:
«…Вы пошли в оные места с честью и при великом отряде, понеся великие расходы и великие затраты. Вас там обесславили и заставили вернуться с позором. Вам навязали перемирие, хотя враги пребывали в вашем королевстве… Оными советами вы были обесчещены!»
Король прямое оскорбление о «бесчестье» или проигнорировал, или вынужден был смириться с реальностью.
Помимо войны, финансовой неразберихи и неурожаев, вызванных «годами большой сырости» начиная с 1345 года, был нанесен еще один тяжелейший удар — эпидемия Великой чумы всего за несколько месяцев взорвала рынок рабочей силы. Мы помним, что смертность во время эпидемии превышала все мыслимые пределы как в городах, так и на селе — что крестьяне, что мастеровые вымирали целыми семьями, весной 1348 года в условиях повального мора не были засеяны огромные площади, а те, что успели засеять, некому было убирать. То же наблюдалось и в городах — уцелевшие ткачи, златошвеи, гончары или суконщики лишились наследников своего дела и подмастерьев…
Читать дальше
![Гай Аноним Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант] обложка книги](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-cover.webp)