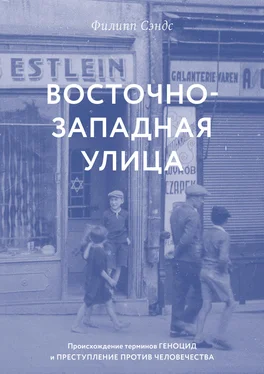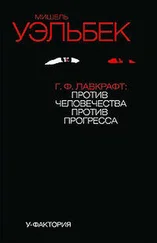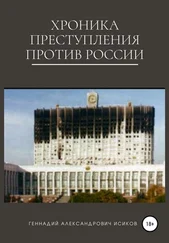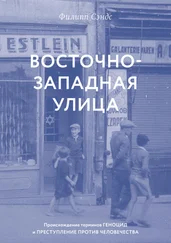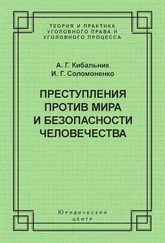Я высказал это предположение Эли. Тот ответил, что отец не называет Лемкина по имени едва ли из каких-то потаенных чувств – такова его «сдержанная академическая манера».
– Отец не был знаком с Лемкиным, тот никогда не бывал у нас дома, насколько я помню, – добавил он.
Я почувствовал, что Эли недоговаривает, и немножко на него надавил.
– У меня осталось очень смутное впечатление: кажется, отец не слишком высоко ставил Лемкина, – признал Эли. – Считал его скорее компилятором, чем мыслителем.
К тому же Лаутерпахт не одобрил концепцию геноцида.
– Возможно, он был недоволен тем, что в сферу международного права вводится такое субъективное понятие, как «геноцид», не опирающееся на практику. По-видимому, он считал такой подход нереалистичным, неосуществимым. Отец ведь был прагматиком и всегда следил за тем, чтобы вовремя остановиться, не переступить черту.
– «Субъективное понятие» – поскольку эти преступления затронули и его собственную семью? – уточнил я.
– Он, вероятно, считал, что с концепцией геноцида Лемкин зашел слишком далеко.
– Слишком далеко – потому что эту концепцию трудно применить на практике?
– Да, именно. Мой отец был очень прагматичным человеком и беспокоился, захотят ли судьи иметь дело с такими вопросами, ведь суд не может решить все мыслимые проблемы.
Опасался ли его отец, что акцент на права групп отвлекает внимание от прав личности?
– Да, этот фактор тоже следует учитывать, – согласился Эли. Он сослался на седьмое издание «Международного права» Оппенгейма, вышедшее после войны: концепция геноцида в нем оценивается весьма невысоко. Эта концепция содержит множество «прорех, натяжек и вероятных рисков»: по мнению Лаутерпахта, она означала «отход» от защиты прав индивидуума.
В конце 1944 года Лаутерпахт сдал вычитанную корректуру своей книги о правах личности. К тому времени Леон поселился с женой и дочерью в освобожденном Париже, а Эли вернулся в Кембридж. Каждая из этих семей – точнее, то, что от них осталось, – воссоединилась.
В феврале 1945 года Черчилль, Рузвельт и Сталин встретились в Крыму, в Ялте, и приняли ряд важных решений. Европа будет разделена. Львов, который Красная армия освободила от немцев, останется в Украине под властью Советов, а не вернется в Польшу, как того хотели американцы {211} 211 Serhii Plokhy. Yalta: The Price of Peace. Viking, 2010. Р. 168.
. Вождей Рейха признали преступниками и договорились предать их суду.
Три месяца спустя сражения в Европе закончились. 2 мая Гарри Трумэн, ставший президентом после смерти Рузвельта, поставил Роберта Джексона во главе команды обвинителей на суде над главными немецкими военными преступниками. Несколько недель спустя, 26 июня, в Сан-Франциско был подписан Устав Организации Объединенных Наций: правительства вошедших в ООН стран брали на себя новое обязательство – соблюдать «основные права человека», уважать «достоинство и ценность человеческой личности» {212} 212 Устав Организации Объединенных Наций: преамбула. Сан-Франциско. 26 июня 1945.
.
В июне издательство Колумбийского университета опубликовало книгу Лаутерпахта о Международной декларации прав человека {213} 213 Hersch Lauterpacht. An International Bill of the Rights of Man. Columbia University Press, 1944.
. В поддержку своей веры в новое международное законодательство он цитирует клятву Черчилля «вернуть на престол права человека», поместить в средоточие международного правового порядка защиту индивидуальной личности. В предисловии Лаутерпахт заявляет: главная цель – положить конец «всемогуществу государства». Отклики были в основном позитивными: «Убедительно – проницательно – захватывающе – богатство идей – прагматичное и реалистичное сочетание юридической теории с политическим знанием». Но нашлись и критики, усомнившиеся в том, что отныне «законы Джима Кроу и лагеря уничтожения» перестанут быть предметом исключительно национальной юрисдикции. Раздавались голоса, называвшие идеи Лаутерпахта опасными; кое-кто видел в них возвращение к давно забытым концепциям XVII века. «Лаутерпахт – отголосок прошлого, а не пророк будущего» {214} 214 Hans Morgenthau. University of Chicago Law Review. 1945–1946. Vol. 13. P. 400.
, – порой говорили и так.
Предлагаемый в книге проект Декларации подавался как «радикальное изменение международного права». Прецедентами, на которые можно было бы опереться, Лаутерпахт почти не располагал, за исключением довольно скромных попыток французского Института международного права ( Institut de Droit International ), идей Уэллса и нескольких создававшихся во время войны международных комитетов. Его проект состоял из девяти статей, утверждающих гражданские права (личную свободу, свободу вероисповедания, выражения мнений, собраний, неприкосновенность частной жизни, а также равенство и т. д.). Некоторые темы Лаутерпахт обошел молчанием, в том числе не включил в Декларацию запрет пыток и не упомянул дискриминацию женщин. Столь же поразительным задним числом кажется его подход к сегрегации цветных жителей Южной Африки и к «тяжелой проблеме практического лишения гражданских прав значительных слоев негритянского населения в некоторых штатах Америки»: он соглашался с «реальной политикой», необходимой для того, чтобы эти два государства согласились подписать Международную декларацию. Другие пять статей предлагаемой Декларации охватывали прочие политические права (участие в выборах, самоуправление, права меньшинств и т. д.) и, в ограниченном объеме, экономические и социальные права на работу, образование и социальную поддержку бедных, «невиновных в своем положении». Лаутерпахт не затрагивает права собственности – возможно, учитывая дувший с востока политический ветер и политические преобразования в самой Великобритании.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу