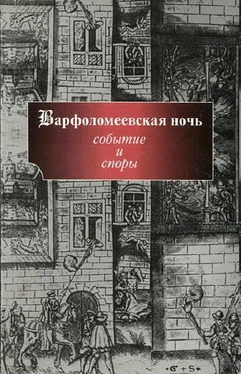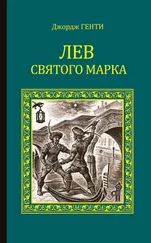В таком случае, представляется, что приумножение смыслов резни монархией, которая словно их сама плодит и распространяет, в то же время защищаясь от них, отражает понимание ею того, что свершившаяся однажды история может быть только предметом одобрения через воображаемое. Это приумножение смыслов доступно публичной сфере, коль скоро власть допускает в самом своем решении и в той манере, в которой она рассказывает о своем возможном выборе, мысль о том, что она будет открыта для критики и что она должна поэтому приумножить свои приманки и обманные маневры, дабы не оказаться ослабленной рассуждениями, которые, пытаясь постигнуть событие, покушаются на то, чем определяется власть, — на знание или на разум. Как было уже сказано, нет лучшего показателя того, что власть инициировала Варфоломеевскую ночь, чем это приумножение смыслов, исходящее от нее самой и с которым она продолжает играть в первые недели и месяцы, последовавшие за резней. Уже с эпохи правления Франциска I и еще в правление Людовика XIII очевидно, что власть, когда она приводит в действие технику пропаганды, есть прежде всего власть языка, предназначенного подорвать или исказить враждебную себе критику и разоблачения. Государство есть факт языка, оно существует только как господство над языком согласно символике галльского Геркулеса, особенно активно используемого при Генрихе II, но присутствующего в королевском воображаемом всегда.
Именно эта эмпирическая связь между властью и языком ответственна за то, что монархическая власть, поставленная после 1559 г. в "оборонительную позу", если процитировать Марселя Гоше [231], использует Варфоломеевскую ночь в качестве многозначной виртуальности, логически предусматривающей ненадежность всякой работы по ее дешифровке. Приумножение смыслов есть признак власти, поскольку оно усиливает власть, превращая ее в могущество, сила коего неощутима простыми смертными, в мистическую силу. Оно является, таким образом, наилучшим из признаков, позволяющим угадать виртуальность Варфоломеевской ночи, которая была монархическим преступлением, по крайней мере, на первых порах… Но только лишь виртуальность…
Варфоломеевская ночь и парижская "ритуальная революция"
Робер Десимон
Предлагаемое исследование не претендует на переосмысление событийной канвы, приведшей к Варфоломеевской ночи. Наша задача состоит в попытке вписать это событие в контекст длительной мутации социальных структур Парижа, нашедшей свое отражение в изменении форм городских ритуалов и процессий, ставших столь привлекательными для историков последних десятилетий. Так получилось, что события 1572 г. совпали с началом решительного поворота в развитии парижской церемониальной системы, за которым, с нашей точки зрения, стояли существенные сдвиги как в системе властных отношений, так и в осмыслении общественного устройства. Но даже для того, чтобы только обозначить существо данных перемен, потребуется пространный и, возможно, утомительный экскурс в историю сакральной основы парижской муниципальной системы.
В XVI в. статус парижского буржуа определяется как отношением его с королем и королевской юстицией (иначе говоря, носил "персональный" характер), так и отношением с городом и подвластной ему территорией (т. е. имел еще и "реальный" характер) [232]. В недрах этого диалектического отношения и функционировали парижские привилегии. Символическая ценность этих привилегий определялась причастностью к королевскому Делу, существованием в рамках городской общины с ее мистическими корнями, местными реликвиями и ритуалами [233].
Теория мистического и политического тела ( corpus mysticum et politicum ), порожденная соединением идущей от римского права теорией corporatio с теологической концепцией universitas и тесно связанная с понятиями общего блага ( res publica ), к концу средневековья стала приложимой к любому коллективу, наделенному статусом юридического лица ( persona ficta, persona publica ) [234].
Развитие городской знаковой системы, при помощи которой парижская община осмысливала свои привилегии, следует соотносить не столько с "республиканской" идеологией, якобы противостоявшей королевскому всемогуществу, но, скорее, с органицистской идеей, которая включала всю городскую общину в базовую структуру "король-королевство", понимаемую как единое тело.
Первой специфической чертой знаковой системы Парижа был столичный статус этого города. Происходившее здесь взаимодействие между местными реликвиями и культами и теми культами, что имели общекоролевское значение, приводило к синтезу корпоративной концепции монархии с корпоративной концепцией столицы как главы всех городов и сердца королевства.
Читать дальше