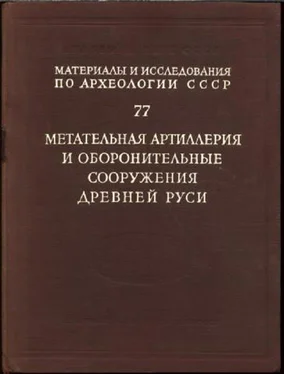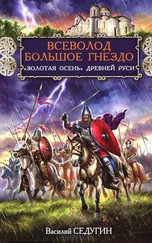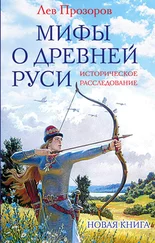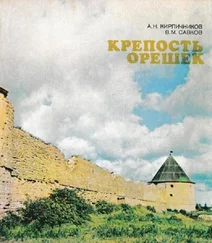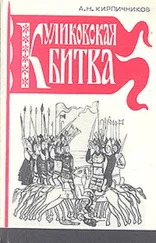В южной и особенно в юго-западной Руси известен целый ряд городищ с многорядной системой рвов и валов. Их система еще не разгадана, но, несомненно, она была рассчитана на повышение обороноспособности крепостных сооружений. Во второй половине XII в. русскими войсками, очевидно, употреблялся самострел, ставший в XIII в. распространенным ручным метательным оружием. Упоминание арбалета Никоновской летописью относится к 1159 г. [51] ПСРЛ, т. IX, стр. 220.
. Это оружие мы видим на миниатюре Радзивилловской летописи, иллюстрирующей событие более раннего времени — 1152 г., хотя текст к рисунку о нем молчит [52] Лист 195, вверху.
. В 1176 г. из самострелов и луков стреляли враждовавшие русские полки [53] В. Н. Татищев . Ук. соч., кн. 3. М., 1774, стр. 212.
. Нет нужды говорить о том, какое значение имел арбалет в крепостной войне.
К этому же периоду относится первое более или менее достоверное упоминание пороков в борьбе княжеств за города, сохраненное в «Истории» В. Н. Татищева . Возможно, что излишний скептицизм к сообщениям старого историка был причиной того, что эти факты были забыты и не использованы. Однако уже давно отмечено, что при передаче летописных текстов В. Н. Татищев отличался редкой добросовестностью; свои замечания и данные иностранных источников он помещал в примечаниях [54] И. А. Линниченко . Взаимные отношения Руси и Польши до половины XIV в., ч. I. Киев, 1884, стр. 33.
.
Согласно «Истории» В. Н. Татищева время появления пороков можно отодвинуть на полстолетие раньше по сравнению с общепризнанной датой — началом XIII в. В 1146 г. Всеволод Ольгович, осадив галицкий Звенигород и «видя, что градские крепко обороняются и отдаться не хотят, учинил приуготовление к добыванию его, чтоб приступя рвы завалить, и стены зажечь, или пороками разбить, и велел всем войскам приступя добывать. Они же биша пороки чрезь весь день и до вечера, и на трех местах град зажигали». Штурм, однако, был отбит. Все событие сопровождается такими подробностями, которые, пожалуй, исключают вымысел: «Тогда погода была тяжкая, овогда дождь, иногда снег, и войска шли с великим трудом, пременяя сани и телеги…» [55] В. Н. Татищев . Ук. соч., кн. 2. М., 1773, стр. 280.
. Боевые действия длились 3 дня. Ипатьевская летопись передает почти аналогичное сообщение, но не упоминает пороков [56] ПСРЛ, т. II, 2-е изд., стр. 319, 320. В тексте есть пропуск.
, поэтому нельзя свести приведенный рассказ к одному первоисточнику.
Еще более показательно второе сообщение. В 1152 г. во время осады Новгорода-Северского «все подступя ко граду стали биться. Устроя же ворох [57] «Ворох разумеется груда земли или из дерев сделанная высота». (Примечание В. Н. Татищева ).
, с которого во град стреляли и камение бросали, так же пороки приставя, тотчас стену выломили и острог взяли». Вскоре борьба окончилась миром [58] В. Н. Татищев . Ук. соч., кн. 3, стр. 72.
. Указано число приступа — 11 февраля, приводятся и другие даты, что напоминает дневник очевидца. Детали рассказа в Ипатьевской летописи отличаются от приведенных, поэтому и здесь налицо разные первоисточники события. В приведенных свидетельствах пороки выступают как орудия штурма, орудия разрушения стен. Эти свидетельства для XI–XII вв. являются древнейшими в Европе об оружии такого рода.
В Ипатьевской летописи упоминание о метательных устройствах относится к 1184 г. В этом году «пошел бяше оканьный и безбожный и треклятый Кончак со множеством половец на Русь, похупся (похваляясь) яко пленити хотя грады русские и пожещи огнем: бяше бо обрел мужа такового басурменина ( т. е. мусульманина ), иже стреляше живым огнем, бяху же у них луци тузи самострелнии одва 50 муж можашеть напрящи» [59] ПСРЛ, т. II, 2-е изд., стр. 634, 635. По сообщению Густинской летописи, «имеяху же и самострелы великия яко единого самострела едва 50 муж могоша напрящи» (ПСРЛ, т. II, 1-е изд., стр. 319).
. Необычность употребления такого оружия кочевниками, призвавшими для этого какого-то мусульманского мастера, привлекла внимание к этому событию русских источников. Об этом эпизоде сообщает и В. Н. Татищев : «Хан Кончак имел мужа, умеющего стрелять огнем и зажигать грады, у коего были самострельные туги так велики, что едва 8 человек могли натянуть, и укреплены были на возу великом. Сим он мог бросать каменья в середину града в подъем человеку и для метания огня имел особый малейший, но вельми хитро сделанный» [60] В. Н. Татищев . Ук. соч., кн. 3, стр. 259, 260.
.
Читать дальше