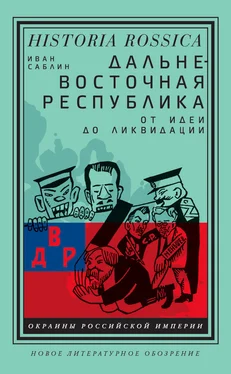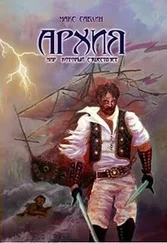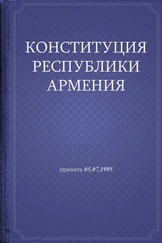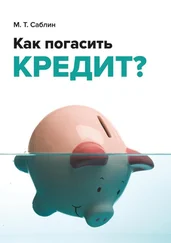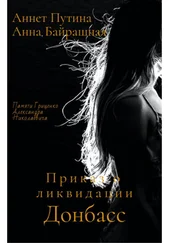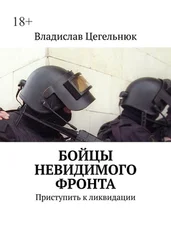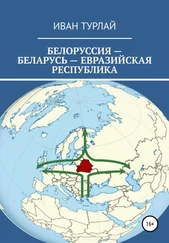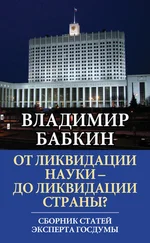Хотя в Японии многие выступали против затянувшейся Сибирской экспедиции, ни у японских, ни у американских представителей не было впечатления, что события в Чите ведут к созданию независимого демократического государства. Американские представители докладывали в Вашингтон, что правительство ДВР «несомненно является ничем иным, как отделением центрального большевистского правительства» [615]. По словам Макгоуэна, японское командование считало вооруженный конфликт с большевиками «неизбежным и близким» [616]. «Владиво-Ниппо» называла правительство Краснощёкова «филиальным отделением Москвы». Ои Сигемото, Мацудаира и Исоме, позволившие большевикам одержать верх, были отозваны в Токио. Новым главнокомандующим японскими силами в регионе был назначен генерал Татибана Коитиро. Благодаря такому развитию событий в январе 1921 года японская армейская партия сумела сохранить лидирующие позиции в Токио, а правительство Хары решило не выводить войска из Владивостока и его окрестностей [617].
Среди самих большевиков после Читинской конференции по-прежнему сохранялось разное понимание ДВР. Чичерин и Краснощёков соглашались, что республика должна вести традиционную внешнюю политику, чтобы помочь Советской России выйти из дипломатической и экономической изоляции, но вместе с тем ожидалось, что она станет аванпостом транснациональной политики большевиков по распространению мировой революции в Азию [618]. К осени 1920 года большевики, казалось, добились заметных успехов в связях с азиатскими революционерами, в полном соответствии с программой Второго конгресса Коминтерна. Постепенное смещение Коминтерном акцента с темы классовой борьбы на концепцию «угнетенных наций» открыло большевикам путь к сотрудничеству с националистами, но в то же время привело к упрощенному взгляду на политику в Восточной Азии [619]. Съезд народов Востока, прошедший в Баку с 1 по 8 сентября 1920 года с участием китайских, корейских и японских делегатов, казалось, способствовал укреплению нового подхода, но единого мнения о том, какие именно группы в каждом из революционных движений следует поддерживать и как нужно организовать пропагандистскую и военную деятельность в Восточной Азии, у большевиков так и не сложилось.
Помимо разницы во взглядах на Восточную Азию у «транснационалистов», «российских националистов» и «регионалистов», важную роль сыграли личное соперничество между членами партии большевиков и расколы в национальных движениях. На Всероссийском съезде корейцев (Омск, октябрь 1920 г.) вновь разгорелась борьба между Шанхайской и Иркутской группами корейских социалистов; Краснощёков поддержал шанхайцев, а Шумяцкий – их оппонентов. 24 декабря 1920 года Дальбюро учредило Корейское бюро РКП(б), которое возглавил Пак Ай. Оно представляло Шанхайскую группу и должно было стать основой независимой Корейской коммунистической партии. В середине декабря 1920 года, когда представители иркутского Корейского центрального комитета отправились в Благовещенск на встречу с Всекорейским национальным советом, правительство ДВР не пустило их дальше Читы. В декабре 1920 года Дальбюро и Эйхе назначили новых командующих Сахалинским корейским партизанским отрядом, находившимся в тесном контакте с Всекорейским национальным советом и все еще имевшим в своем составе бывших тряпицынских партизан. Но и они не смогли взять под контроль корейские организации Амурской области [620].
Помимо этого, Краснощёков и его союзники помешали Иркутской группе наладить связь с агентами Коминтерна в Восточной Азии, задерживая корреспонденцию в Верхнеудинске. Московское и омское руководства планировали создать в Чите Дальневосточный секретариат Коминтерна, что вполне соответствовало планам Краснощёкова на ДВР, но от этой мысли пришлось отказаться из-за ожесточенного сопротивления Секвостнара. 15 января 1921 года Дальневосточный секретариат Коминтерна был создан на основе Секвостнара в Иркутске. Возглавил его Шумяцкий. Кроме того, московское руководство не одобрило идею Дальбюро о создании Корейского бюро при ЦК и распорядилось распустить корейскую организацию при Дальбюро [621].
Впрочем, объединенным усилиям по экспорту революции через ДВР препятствовал не только краснощёковский регионализм, проявившийся в попытке сделать Читу центром всех действий большевиков на российском Дальнем Востоке и в Восточной Азии, но и национализм. Корейская секция (бывшее Корейское бюро при Дальбюро) жаловалась Министерству иностранных дел ДВР, что Всекорейский национальный совет и корейские партизаны отказываются ей повиноваться, утверждала, что Всекорейский национальный совет опасен для республики, поскольку ведет антияпонскую деятельность, и просила Амурский народно-революционный комитет (областную администрацию) ликвидировать его [622].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу