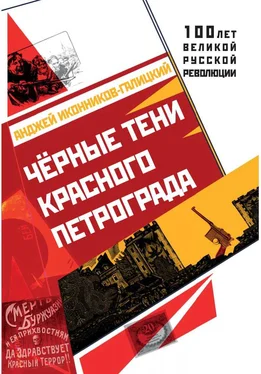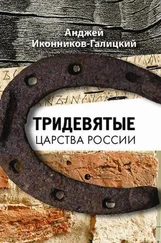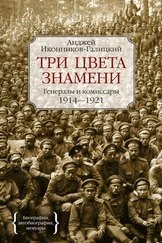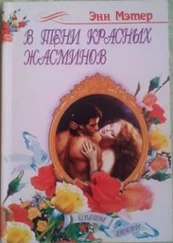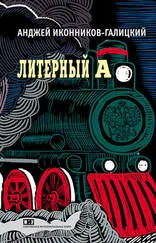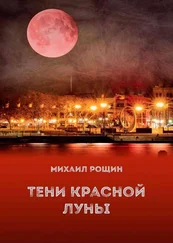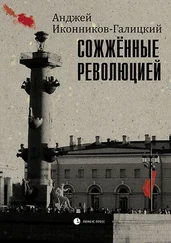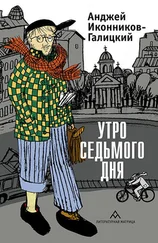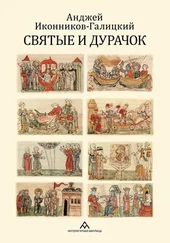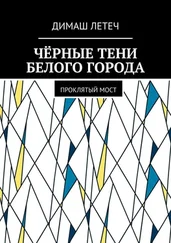Чем это объяснить? Очень просто: питерские рабочие хорошо помнили буйную, никем не управляемую матросскую вольницу 1917–1918 годов, эту «красу и гордость революции» в немыслимых клёшах, расшитых разноцветным бисером, в бушлатах, перемотанных пулемётными лентами, в сдвинутых на затылок бескозырках и с гранатами на боку. Эти гранаты слишком часто взрывались, и питерский обыватель, будь он рабочий или буржуй, вовсе не хотел, чтобы «клёшники» вновь заполонили улицы полувымершего города. Уж лучше большевистские чиновники в Смольном и чекисты с Гороховой, создающие пусть голодный и злой, но твёрдый порядок.
Кронштадт оказался в изоляции, дни его воли были сочтены. Первый, пробный штурм в ночь с 7 на 8 марта, оказался неудачным по причине ненадёжности красноармейцев: многие, ненавидя командиров и комиссаров, симпатизировали матросскому анархизму. Двинулись в атаку — и в разгар боя два батальона 561-го полка перешли на сторону кронштадтцев. Характерно, что взбунтовались бойцы Южгруппы, которой командовал Дыбенко, сам в прошлом лучший друг анархистов. В его же войсках вспыхнул бунт 14 марта, но мгновенно был подавлен. Ко второму штурму готовились тщательно. Были разысканы и сурово наказаны распространители «неустойчивых, мелкобуржуазных и кулацких настроений» в полках. С остальными проведена политработа. Неделю продолжалась артиллерийская дуэль.
В Кронштадте тем временем истощались запасы угля, продовольствия и снарядов. 16 марта в 14 часов началась артподготовка и длилась до темноты. Ночью Северная и Южная группы одновременно перешли в наступление. К утру, заняв часть фортов, бойцы Южгруппы ворвались в город. К середине дня 17 марта пали малые северные форты, к вечеру — южные батареи. Последняя отчаянная контратака кронштадтцев в 21 час отбита. Под её прикрытием ревком и большая группа мятежников (среди них Петриченко и Козловский) бежали по льду в Финляндию. К пяти часам утра 18 марта сдались последние два форта: Тотлебен и Красноармейский. Стрельба стихла.
Согласно донесению начштаба Реввоенсовета республики потери наступавших в ходе штурма составили 130 человек комсостава и 3013 красноармейцев. Потери защитников в бою были не меньше. Около восьми тысяч ушли в Финляндию. По приговорам ЧК, военного трибунала и других «имеющих право» органов были расстреляны 2103 человека (в том числе Перепёлкин и Киров). 6459 участников мятежа были отправлены в места заключения, около 3 тысяч в ссылку. Рядовые и «несознательные» были амнистированы в ноябре того же года по случаю четвёртой годовщины Октябрьской революции.
Примечательна дальнейшая судьба участников этого бессмысленного человекоубийства. Все те, кто руководил подавлением мятежа — Зиновьев, Тухачевский, Кожанов, Угланов, Дыбенко, Комаров, Кузьмин, — были расстреляны в 1936–1938 годах. Исключение — Авров: он умер через год после Кронштадта и похоронен на Марсовом поле. Всех их пережил Петриченко. Мыкаясь без работы по Финляндии, он в 1927 году дал согласие работать на ОГПУ; долгое время был секретным агентом советской разведки в эмигрантских организациях. В 1945 году выдан Советскому Союзу, приговорён к 10 годам лагерей и умер при невыясненных обстоятельствах в 1947 году.
Статистические данные приводятся по изданию: Б. Н. Миронов. Преступность в России в XIX — начале XX века. // «Отечественная история», 1998, № 1,
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу