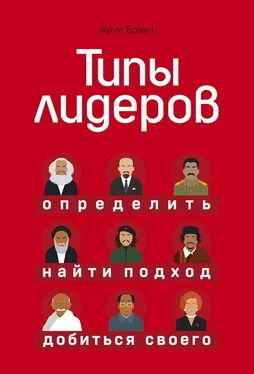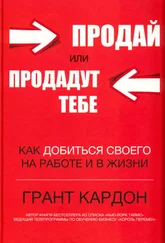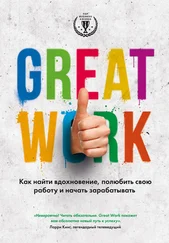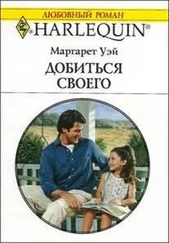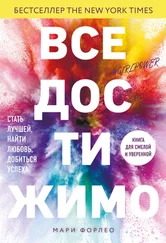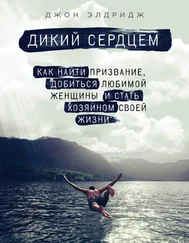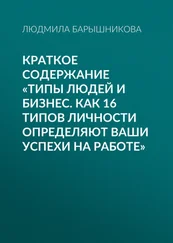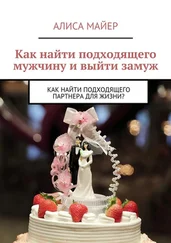Вознесение одного лидера над остальным коллективом в коммунистических странах являло собой разительный отход от революционных идеалов. Преклонение перед руководителем было неотъемлемой частью фашизма, но далеко не соответствовало учениям Маркса и Ленина, хотя ленинская убежденность в необходимости централизма, дисциплины и иерархической структуры Коммунистической партии создавала предпосылки для будущей личной диктатуры. Тем не менее даже при Сталине поклоняться следовало идеям, которые в принципе были выше лидера. Вряд ли можно было ожидать от него приватизации советской промышленности — это значило бы откровенно порвать с официальной идеологией. Разумеется, будучи во многих отношениях ортодоксальным коммунистом, он совершенно не намеревался делать что-либо подобное. И даже отходя от марксистско-ленинского учения на деле, он не мог позволить себе признаться в этом. В связи с этим представляется уместной формулировка Алана Баллока относительно различий между догмами сталинизма и гитлеризма: «В случае Гитлера идеология была тем, что сказал о ней фюрер; в случае Сталина она заключалась в том, что генеральный секретарь сказал о том, что говорили о ней Маркс и Ленин» [805].
Тем не менее Сталин сыграл полноценную роль в нарастании культа собственной личности, поставившего его неизмеримо выше всех соратников по революционной деятельности двух первых десятилетий двадцатого века. После своего «секретного доклада» XX съезду КПСС, в котором развенчивался культ личности Сталина, Хрущев получил письмо от старого большевика Петра Чагина, члена партии с лета 1917 года. Он вспоминал, как в апреле 1926 года возглавивший незадолго до этого ленинградскую парторганизацию Сергей Киров устроил ужин в честь посещавшего город Сталина. Чагин присутствовал на мероприятии как редактор одной из ленинградских газет. В беседе Киров заметил: «Да, без Ленина, конечно, трудно, но у нас есть партия, ЦК и политбюро, которые поведут страну по пути ленинизма». Расхаживавший взад-вперед по комнате Сталин ответил: «Да, все это так — партия, ЦК, политбюро. Но не надо забывать, наш народ мало что в этом смыслит. Веками у русского народа были цари. Русским нужен царь. За много столетий русские, особенно крестьяне, привыкли, что ими правит один человек. И сейчас должен быть один » [806][курсив мой.]
Сталин, несомненно, был вполне искренен, высказывая подобные взгляды (представляющие собой немарксистскую разновидность исторического детерминизма), но они, помимо прочего, отражали и его собственные интересы, поскольку сам он явно не сомневался, кто станет этим «одним». Десятью годами позже в другой частной беседе Сталин сказал, что «народу нужен царь», то есть «кто-то, кого следует почитать и во имя кого жить и работать» [807]. Это точку зрения разделяли многие советские пропагандисты, считавшие, что проще привить и развивать восхищение великим вождем, чем заставлять большинство людей радостно принимать марксизм-ленинизм. Во времена разгула культа своей личности Сталин, считавший, что как минимум получает должное, иногда мог лицемерно указать кому-то из редакторов на преувеличения. Так, в 1938 году он велел издательству детской литературы уничтожить тираж книги под названием «Рассказы о детстве Сталина», поскольку «культ личностей» и «непогрешимые герои» не соответствуют «большевистскому учению» [808].
Культ личности существовал не во всех коммунистических странах. Так, например, от этого воздерживался Янош Кадар — главный человек в венгерском руководстве в течение более чем трех десятков лет. Он отнюдь не соответствовал представлениям о героическом вожде, но в основе столь длительного срока его пребывания на высшем посту были не жестокие репрессии или создание образа великого человека. В силу своего положения руководителя партии он был главным действующим лицом венгерской политики, но не диктатором. В самые первые годы после венгерской революции 1956 года он руководил суровыми репрессиями, но затем, с начала 1960-х, Кадар пошел по пути осторожных реформ. С этого времени и до середины 1980-х в Венгрии было проведено больше экономических реформ и сделано гораздо больше послаблений в области культуры, чем в любой другой восточноевропейской коммунистической стране за тот же период. Кадар был мэтром в области двусмысленности и в умении определить, насколько далеко можно безнаказанно отойти от советской догмы. Открытое осуждение Сталина Хрущевым на XXII партсъезде предоставило Кадару возможность активизировать процесс десталинизации Венгрии. В конце 1961 года он заявил: «Кто не против нас, тот с нами», что стало отражением готовности к политическому квиетизму, резко контрастирующему с присущей Хрущеву кампанейщиной [809].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу