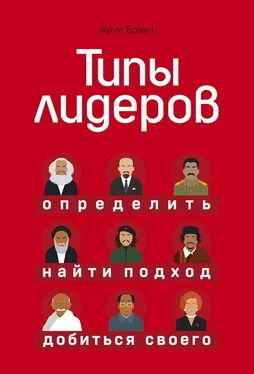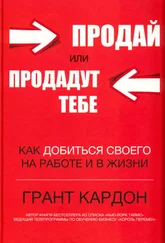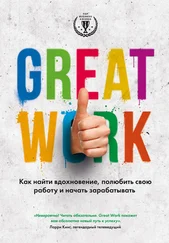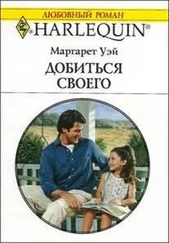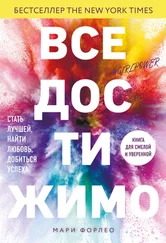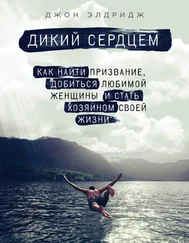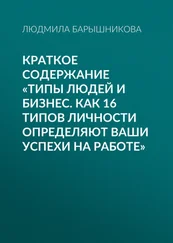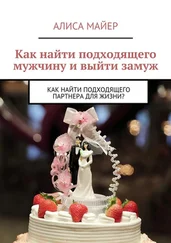К концу 1958 года вооруженный отряд разросся до примерно трех тысяч человек и пользовался значительно более широкой поддержкой. Постепенно разлагающаяся армия оказывала партизанам все меньшее сопротивление. Когда партизаны направились к Гаване, Батиста решил, что в качестве президента его дни сочтены. 1 января 1959 года он с родственниками и несколькими друзьями вылетел в Доминиканскую Республику. За его самолетом последовали еще два, в которых находилось не только его ближайшее окружение, но и почти весь кубинский золотой и валютный запас. С 3 января Кастро шел по острову победным маршем, и 8 января он во главе своей колонны въехал в Гавану под звон церковных колоколов, заводских гудков и судовых сирен. На площади перед президентским дворцом собралась толпа из нескольких сот тысяч человек, к которой с балкона здания обратился Кастро с характерной для себя многочасовой речью. Британскому послу на Кубе Фидель показался «сочетанием Хосе Марти, Робин Гуда, Гарибальди и Иисуса Христа в одном лице» [725]. В то время Кастро и его сторонников считали скорее радикальными демократами, а не марксистами-революционерами, и это было не совсем неверно, хотя Рауль Кастро и Че Гевара при всех их слабых знаниях о Советском Союзе в значительно большей степени симпатизировали коммунистическим идеям, чем Фидель. Встраивание в международное коммунистическое движение (и альянс с Советским Союзом) произошли уже позже.
Кастро знал толк в театральных жестах и умел себя подать.
Кубинская революция — очевидный случай огромного значения роли лидера. Здесь революционеров привела к власти не организационная дисциплина Коммунистической партии, а нечто, тесно связанное с харизматичным лидерством в лице Фиделя Кастро. В отличие от некоторых других коммунистических лидеров, он не создал культ самого себя (за годы, проведенные им на посту руководителя Кубы, в его честь не называли ни улиц, ни зданий или парков), отчасти потому, что масштаб влияния его личности был и без этого огромен. Стиль его руководства приобрел широкую известность как «фиделизм» — некая особая разновидность латиноамериканской традиции «каудильо», народного лидера, которому положено верить и повиноваться, как отцу. Ортодоксальные коммунисты, например сотрудники посольства ГДР на Кубе, в своих докладах руководству не одобряли эмоциональную составляющую его руководства, но именно по этой причине Кастро вызывал теплые, а иногда и сердечные чувства, которых никак не вызывали Вальтер Ульбрихт и Эрих Хонеккер. Конфиденциальный доклад, направленный посольством ГДР берлинскому руководству в 1964 году, осуждал Кастро за «национализм и леворадикализм», «субъективизм в оценках тенденций и их причин», его склонность «руководить массами с чисто эмоциональных позиций» и «давать волю чувствам» в трудных ситуациях [726].
Кастро знал толк в театральных жестах и умел себя подать. Он усилил эффект от своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 1960 году, выйдя на трибуну в типичной для себя темно-зеленой военной куртке. Кроме того, он поддразнил американскую администрацию и враждебно настроенные СМИ, переехав полным составом своей делегации из дорогого нью-йоркского отеля в гостиницу в трущобах Гарлема, где его восторженно приветствовали черные и латиноамериканцы. В такой необычной для дипломатии на высшем уровне обстановке он принял советского лидера Никиту Хрущева, индийского премьера Джавахарлала Неру и египетского президента Гамаля Абдель Насера, а также лидера черных радикалов Малькольма Икса [727]. Всегда очень учтивому Кастро в то же время удавалось сохранять больше искренности и непосредственности в общении, чем это обычно свойственно лидерам, долгое время находящимся у власти. Помимо прочего, его совершенно не трогали материальные соображения. Как замечает один из его лучших биографов: «И те, кто заявляет о личном знакомстве с ним, и его многочисленные противники сходятся в том, что это один из очень немногих единоличных правителей, кто не использовал свое положение в целях обогащения и не закопал миллионы в Швейцарии» [728].
Некоторые революции начинаются с того, что огромные массы людей выходят на улицы или штурмуют правительственные здания, не дожидаясь, когда их сподвигнет к действиям некий лидер. Другие в большей степени зависят от конкретного лидера или небольшой руководящей группы. К последним со всей очевидностью относится кубинская революция. Кастро и его товарищи по оружию завоевывали все больше и больше сторонников благодаря своей отваге, умению воодушевлять и ярко выраженному стремлению к справедливости для сельского населения и избавлению от коррупционной скверны. Сам Кастро позднее подчеркивал, насколько маленькой была группа людей, запустившая революционный процесс: «Посмотрите, ведь нас, тех, кто составлял ядро движения, атаковавшего казармы Монкада, было всего трое или четверо. В самом начале — и это странно — у нас был небольшой отряд лидеров и исполком всего из трех человек». Далее он обобщает: «Радикальные революционные партии часто зарождаются в подполье, негласно, а создает и возглавляет их очень узкий круг людей» [729]. В период своего руководства кубинской революцией Кастро не был ни марксистом, ни ленинистом, но его видение истоков движения согласуется с ленинской мыслью о том, что народные массы нуждаются в авангарде профессиональных революционеров, который поможет им понять, что одного улучшения условий жизни недостаточно (разумеется, таковое было бы опасным отвлекающим соблазном) и что необходимо полное свержение старого режима и создание фундаментально другого строя и нового общества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу