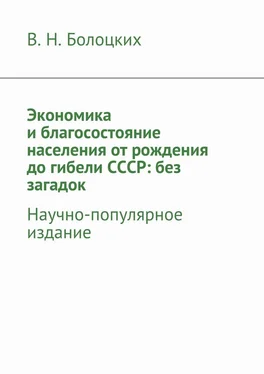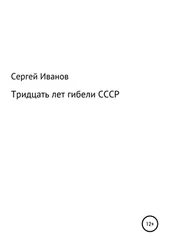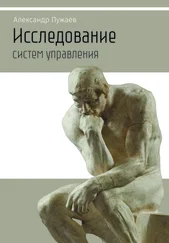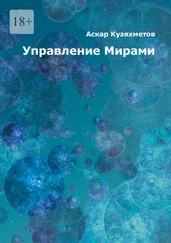Так как ведение отдельного хозяйства было возможно лишь ценою потери в уровне производства, то сама самостоятельность этого хозяйства оставалась неполной. Дело в том, что при паровом трёхполье скудные почвы быстро истощались, а восстановление их плодородия было связано с применением подсеки и перелога. А это вновь требовало больших затрат труда и помощи общины.
Только прибегая периодически к дополнительному возделыванию земли с помощью перелога или подсеки, то есть к коллективной расчистке леса, подъёму целины, создавая «излишние» временные пашни, русский крестьянин более или менее сводил концы с концами. Периодически обновлялась и сама регулярная пашня, так как через 20—30 лет, как правило, и она теряла свое плодородие. Отсюда и характерное для Северо-Восточной Руси «гнездовое» расположение поселений, при котором близлежащие небольшие деревни образовывали более крупные объединения – сёла, волости, члены которых приходили на помощь друг другу.
Сведения об урожайности встречаются с конца XV в. В Водьской и Шелонской пятинах известны примеры урожайности ржи того времени – от сам-1,7 до сам-2,3, по Обонежской пятине – сам-3, по Деревской – сам-2 и сам-3.
Имеются данные по Иосифо-Волоколамскому монастырю конца XVI в. В его сёлах во Владимирском, Суздальском, Тверском, Старицком, Рузском, Волоцком и Дмитровском уездах (то есть гораздо южнее Новгородских земель) за отдельные годы урожайность ржи была в пределах от сам-2,45 до сам-3,3, овса – от сам-1,8 до сам-2,56, пшеницы – от сам-1,6 до сам-2,0, ячменя – от сам-3,7 до сам-4,2 и т. д.
В XVII – XVIII вв. картина практически не меняется. По вологодскому Северу рожь давала от сам-2 до сам-2,7, овёс – от сам-1,5 до сам-2,8. Со второй половины XVIII в. появляются сводные данные об урожайности по губерниям. Так, по Тверской губернии в 1788—1791 гг. урожайность ржи и овса в среднем колебалась от сам-1,9 до сам-2,8, по пшенице – от сам-1,9 до сам-2,7. Данные по Новгородской, Московской, Костромской, Нижегородской губерниям дают похожую картину. К югу от Оки, где преобладали деградированные чернозёмы (Калужская, Рязанская, частично Орловская, Тамбовская и другие губернии) в 80—90-е годы XVIII в. урожайность была немногим выше, чем в Нечерноземье.
Мало меняется положение с урожайностью и в XIX в. 16 16 Милов Л. В. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса // Вопросы истории. 1992. №4—5. С. 37—39; Он же. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. С. 162—189.
Таким образом, в историческом центре Российского государства в течение, по крайней мере, 400 лет уровень урожайности был необычайно низок, но и он достигался путём громадных затрат труда.
Первой причиной стабильно низкой урожайности в основных регионах России была худородность почв. Однако низкое плодородие почв объясняет далеко не всё. Ведь во многих странах Европы почвы были также не самые лучшие, но благодаря тщательной обработке и обильным удобрениям урожайность там, особенно в Новое время, постоянно росла. Почему же в России было иначе? Почему повышение плодородия связывали здесь только с обновлением пахоты за счёт залежи или росчистей, а не прибегали к более тщательной обработке и обильному удобрению?
Рост плотности населения, приведший к нехватке пашни и распашке лугов со второй половины XVIII в. и вследствие этого к сокращению скотоводства и недостатку навоза, мало что объясняет, так как и до этого времени урожайность была низкой.
Основная причина кроется в особенностях природно-климатических условий исторического центра России. Надо иметь в виду то, что, при всех колебаниях в климате, цикл сельскохозяйственных работ здесь был необычайно коротким – всего 125—130 рабочих дней (примерно с середины апреля до середины сентября по старому стилю). В течение столетий русский крестьянин находился в ситуации, когда худородные почвы требовали тщательной обработки, а времени на неё у него просто не хватало, как и на заготовку кормов для скота.
Данные описей крупного господского (монастырского) хозяйства середины XVIII в. показывают трудозатраты: по нечерноземным губерниям 72,6—73,6 человеко-дней при 33,0—34,4 коне-днях; по Владимиро-Суздальскому ополью 45,3—46,7 человеко-дней при 18,9—20,7 коне-днях; по черноземным регионам – 41,3—43,4 человеко-дней при 21,9—22,5 коне-днях.
Таков был уровень трудозатрат в монастырском хозяйстве, где существовала реальная возможность концентрации на полях массы рабочих рук и где применялось и «двоение», и «троение» некоторых яровых культур, и многократное боронование и т. п. Для оценки же производственных возможностей собственно индивидуального крестьянского хозяйства, где был минимум рабочих рук (семья из 4 человек, из них двое детей), за неимением прямых данных необходим приблизительный подсчёт. Из 130 дней примерно 30 дней уходило на сенокос и, значит, крестьянин от посева до жатвы включительно имел около 100 рабочих дней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу