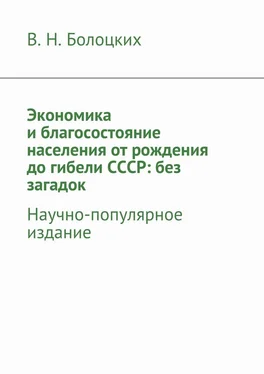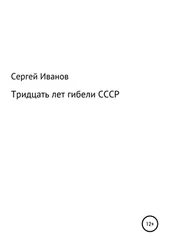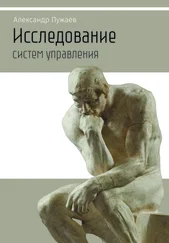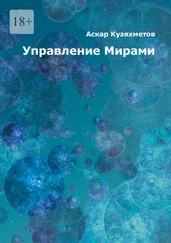Эти экономические процессы были прерваны финансово-экономической политикой Петра I. Но после его смерти его же соратники резко поменяли экономический курс государства из-за его невыгодности для дворянства. В результате в XVIII в. в России произошёл резкий скачок в развитии товарно-денежных отношений, выросло товарное (именно товарное) производство, к концу столетия окончательно сформировался внутренний рынок, Россия стала частью европейского рынка, объём внешней торговли вырос в десятки раз, а оборот внутренней торговли хлебом в начале XIX в. в разы превышал объём его экспорта. Более того, в конце XVIII в. появились мануфактуры с наёмным трудом, в первой половине XIX в. они уже лидировали в отраслях лёгкой и перерабатывающей промышленности. Предпринимательством, в том числе и мануфактурным, занимались не только лично свободные государственные крестьяне, ремесленники и купцы, но и крепостные крестьяне.
Промышленный переворот в России во второй четверти XIX в. начался и успешно шёл как раз в отраслях с высокой долей наёмных работников. К середине века на реках Европейской России перевозка грузов и пассажиров по реках осуществлялась на пароходах. Более того, даже в сельском хозяйстве до отмены крепостного права ежегодно было занято около 800 тысяч наёмных работников. В силу этих, а также некоторых других причин, крепостное право исчезло бы в России к началу XX в. и на гораздо лучших основаниях, по «английскому» типу, т.е. было бы просто изжито экономически.
Крайне ограниченное разделение труда, очень медленное развитие товарного ремесленного производства вынуждали государство создавать собственное производство сначала ремесленное, а потом и фабрично-заводское. Прав Л. В. Милов видя в этом корни традиционного вмешательства российского государства в сферу организации экономики. Это не только царские производства в виде Пушечного двора, Оружейной и Царицыной палат, Хамовной, Кадашевской, Тверско-Константиновой слобод и т. д. Это и создание казённых производств XVIII – XIX вв. Это, наконец, необычайно мощная, широкая и активная (по сравнению с европейской в целом) деятельность государства по созданию так называемых общих условий производства.
Л. В. Милов также убедительно показывает, что мануфактуры XVII в. не были порождены закономерностями экономического развития России, а возникали спорадически, на средства иностранцев, которыми в основном и создавались. Эти мануфактуры работали исключительно на государство и не были втянуты в рыночные отношения, не имели прочной базы в виде платёжеспособного спроса со стороны населения и часть разорялись.
Он абсолютно прав, когда пишет о мифологизации в литературе доменного и молотового комплекса Тульских и Каширских заводов, основанных в 1637 г. (это можно сказать и о других мануфактурах XVII в.): «Разумеется, основание крупного металлургического производства в разоренной стране имело громаднейшее значение и положило начало целой серии таких заводов. Но вместе с тем такая акция государства, призванная укрепить прежде всего обороноспособность страны, стала расцениваться как индикатор общего уровня развития экономики. В ряде работ давалась заведомо завышенная оценка общего состояния страны». 22 22 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. С. 493.
Это указание на то, что казённое производство, подчинённое обеспечению вооружённых сил страны, как и других специфических потребностей государства, не может служить индикатором общего развития страны, имеет значение не только для XVII в. Его можно и нужно распространить на всю историю России, особенно XIX – XX веков. 23 23 См. подробнее: Болоцких В. Н., Деев В. Г., Кузнецов В. А. История России. В 2-х томах. Б.м., 2016.
Недооценка значения казённого производства, его влияния на общее развитие страны, отождествление его уровня с уровнем развития всей страны приводит неизбежно к ошибочным выводам и оценкам. Сказанное справедливо и для советского периода российской истории.
Ещё одной фундаментальной особенностью социально-экономического развития России является широкое применение принудительного труда в разных формах – от использования в промышленности крепостных, приписных и посессионных крестьян до использования труда заключённых, военнослужащих, школьников и студентов в различных сферах экономики.
Недостаточность свободной рабочей силы, не находящей применения в земледелии, приводила к поиску иных способов обеспечения работниками промышленных предприятий. На основе анализа трудовых ресурсов на предприятиях XVII – XVIII вв. Л. В. Милов отмечает, «что применение промышленного труда на крепостной основе, совершающееся путем резкого возрастания эксплуатации крестьян при непременном сохранении за ними земледельческого производства, открыло возможности для своеобразного варианта развития процесса общественного разделения труда. Сочетание земледельческого и промышленного труда стало не временным переходным состоянием для крестьянина, как это обычно бывало в Европе, а утвердилось более чем на вековой период и сохранилось даже после 1861 г. Такова важнейшая специфика развития социума с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта». 24 24 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. С. 526.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу