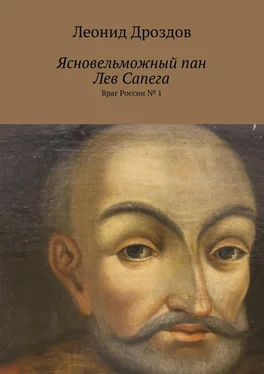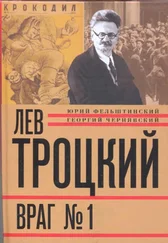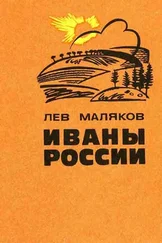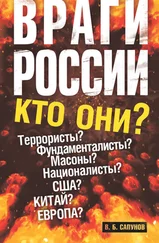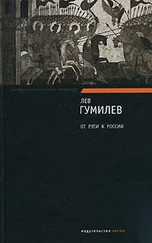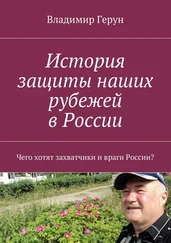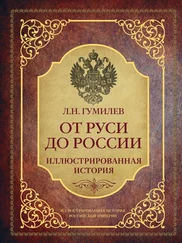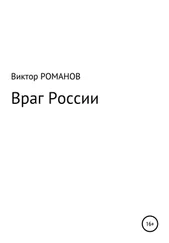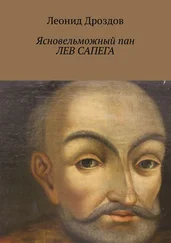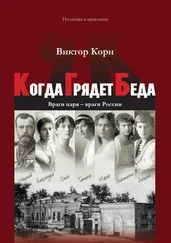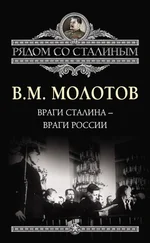Лев Сапега тем временем обдумывал, как ему держаться на официальном приеме, который вот-вот должен был состояться. Взвесив все за и против, молодой дипломат пришел к выводу, что нужно быть решительным, даже дерзким. Только такая тактика может привести к победе. Во-первых, пусть он и не очень знаменит, личность посла священна, поэтому немного нахальства не помешает. Во-вторых, судя по всему, московиты сейчас чувствуют себя неуверенно. Желания воевать со Стефаном Баторием у них нет, и об этом свидетельствовала угодливость Измайлова в Варшаве. В-третьих, между московскими властями предержащими по-прежнему нет согласия. Лев Сапега писал в донесении королю: «Вот и сегодня я слышал, что между ними были большие споры, которые едва не вылились во взаимное убийство и пролитие крови» [116, с. 25].
Враждебность между московскими боярами была обусловлена действиями Андрея Щелкалова. Накануне официального приема Льва Сапеги, беспокоясь о решении финансовых проблем Московского государства, на заседании Боярской думы он добился утверждения закона об отмене налоговых льгот крупных землевладельцев. Князья церкви и состоятельные землевладельцы должны выплачивать налоги на одном уровне с другими. Покушение на боярские привилегии и стало основой боярского возмущения. Борьба в Думе приобрела драматический характер. Власти ждали нового мятежа. Поэтому было решено как можно скорее отправить посла Речи Посполитой из Москвы. 10 июля 1584 года Федор Иванович дал официальную аудиенцию Льву Сапеге.
«На престоле, расположенном на возвышении в три ступени и украшенном сверху донизу золотом, жемчугом и драгоценными камнями, сидел великий князь в царском убранстве: на голове у него был золотой венец, выложенный алмазами, притом очень большими; в руке он держал золотой скипетр, тоже убранный камнями; кафтан на нем был красный бархатный, сплошь шитый крупным жемчугом; на шее висело несколько дорогих камней, оправленных в золото и расположенных в виде цепи или ожерелья. На двух пальцах левой руки его было по большому золотому перстню со смарагдом. Впереди у него на каждой стороне стояли два благородных мальчика с московитскими секирами в белых бархатных платьях, по которым крест-накрест висели золотые цепочки» [103, с. 151]. Выше почетного караула стоял боярин и окольничий Борис Федорович Годунов, а рядом с охраной – «канцлер» Андрей Щелкалов. Все иные вельможи сидели поодаль [92, с. 17]. Посол сразу понял, что именно эти два человека и есть настоящие владыки Московии.
Вся эта обстановка Сапегу нисколько не смутила, он хорошо помнил, зачем сюда пришел. «От имени польско-литовского правительства Сапега заявил, что со смертью Ивана IV мирный договор, заключенный в 1582 году сроком на десять лет между Московией и Речью Посполитой, считается прекратившим свое действие. Если русское правительство хочет мира, то договор будет заключен при условии, что к Речи Посполитой отойдут Северская земля и Смоленск. В случае отказа признать права Речи Посполитой на эту территорию Московию ожидает война» [110, с. 84]. И, чтобы сильнее надавить на новое московское правительство, посол добавил, что султан готовится к войне с Московией; потребовал, чтобы великий князь дал королю сто двадцать тысяч золотых за московских пленников, а литовских освободил без выкупа на том основании, что у короля пленники все знатные, а у великого князя – простые; чтобы все жалобы литовских людей были удовлетворены и чтобы Федор исключил из своего титула название Ливонский [123, c. 196].
Чтобы увеличить свои шансы на успех, Сапега использовал старый, но по тем временам чрезвычайно действенный в международной политике способ: намеренно сообщил великому князю, что турки готовятся к войне с Московией и султан ищет поляков и литвинов в союзники [40, с. 102]. Не знаем, вырвался ли у Федора крик: «Что? Воевать с нами?», как об этом рассказывает один из биографов Льва Сапеги, но среди бояр тревога была посеяна. Сапега с явным удовольствием наблюдал за тем, как московские власти в присутствии Федора вступают в серьезные противоречия друг с другом, не проявляя к нему должного уважения.
Это заставило литовского посла внимательнее присмотреться к личности самого Федора: «Великий князь мал ростом, говорит тихо и очень медленно. Рассудка у него мало, или, как говорят иные и как я сам заметил, вовсе нет. Когда он во время моего представления сидел на престоле во всех царских украшениях, то, глядя на скипетр и державу, все смеялся» [123, с. 196, 197]. При этом некоторые биографы делают выводы, что Федор показался Сапеге клоуном. Примерно так полагали и другие современники, которые имели возможность общаться с Федором Ивановичем. Джером Горсей писал, что «царевич (Федор) был прост умом» [85, с. 75]. Шведский король говорил, что русские между собой называют его durak . Но некоторые все же сомневаются в слабоумии Федора: «Действительно ли Федор был таким, каким описал его Лев Сапега? Неизвестно, так как согласно другим историческим сведениям сын Ивана Грозного своей хитростью и авантюризмом превосходил даже отца, а его поведение во время официальных встреч – это не более чем игра и специальный маскарад» [52, с. 17]. (пер. наш – Л. Д. ). На наш взгляд, такая постановка вопроса не совсем корректна. Выражая подобное мнение, этот исследователь на повестку дня ставит и другой вопрос: если Федор был настолько умен и способен на разные ухищрения, то, видимо, слабостью ума страдал сам Сапега? Надеемся, такая формулировка позволяет понять ошибочность мнения, высказанного одним из биографов Льва Сапеги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу