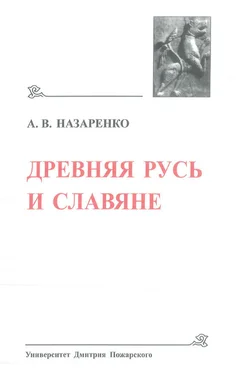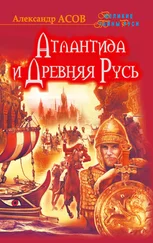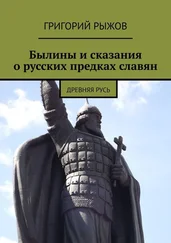Киев и о выдающемся русском этимологе – Олеге Николаевиче Трубачеве, великодушная поддержка которого (равно как и Федота Петровича Филина) сопровождала в далеком 1980 г. появление нашей первой языковедческой публикации. Присутствие в сборнике лингвистических и полулингвистических работ в наших глазах тем более оправдано, что реконструктивный метод сравнительно-исторического языкознания во многом, как мы теперь понимаем, определил реконструктивизм автора этих строк и в качестве историка – за что его не раз корили коллеги, причем, что замечательно, как более «модернистски», так и более консервативно настроенные
[2] Ср. наши попытки объясниться: Назаренко 2004с. С. 294–300; он же 2006с. С. 66–72.
.
О прочих статьях особо не говорим. Правомерность их соединения под одной обложкой, думается, не должна вызвать сомнений даже у придирчивого читателя. Заметим только, что ни одна из них не является простым воспроизведением уже опубликованного. Все тексты просмотрены заново, исправлены и дополнены. В большинстве случаев речь идет о радикальной переработке, а иногда – о совершенно новой работе. Поскольку первоначально статьи вовсе не предназначались для сведе́ния в сборник, в них неизбежно встречаются некоторые повторы. Как правило, мы старались избегнуть их, пользуясь перекрестными ссылками, но последовательное их истребление стало бы делом хлопотным, да и могло бы повести в отдельных случаях к сбою в логическом строе изложения. Автор утешал себя школьной истиной, что повторение – мать учения.
В заключение, отчасти возвращаясь к сказанному в первых строках, припоминаем одно из любимых речений В. Т. Пашуто, с которым он не раз адресовался к молодым и, по молодости, порой не в меру задиристым коллегам: «Надо стоять на плечах, а не на костях своих предшественников». Возраст дает много возможностей убедиться в справедливости этих слов. Вот почему позволим себе – хочется верить, не совсем без права – закончить неформальным посвящением этой небольшой summa всем старшим коллегам, как ушедшим, так и здравствующим, без труда которых она была бы невозможна, и вообще поколению наших отцов и дедов, благодаря жизни и смерти которых мы живы.
И нить русской истории не рвется.
Москва, весна 2008 г.
I. Древнерусское династическое старейшинство по «ряду» Ярослава Мудрого и его типологические параллели – реальные и мнимые [3] Несколько видоизмененный и исправленный вариант одноименной работы: Назаренко 2007а. С. 30–54.
Главнейшей чертой, которая определяла династический строй во многих раннесредневековых государствах Европы, был взгляд на государство как на патримоний – семейное владение, подлежавшее передаче от отца ко всей совокупности его сыновей-наследников. Если наследников было несколько, то возникало так называемое corpus fratrum – так или иначе организованное братское совладение тем, что можно было бы с известной степенью условности назвать «государством» (доходами, территорией, формами репрезентации и т. д.). Наиболее последовательно этот порядок, вытекающий из устройства архаического династически-родового сознания, был реализован в государстве франков и на Руси, где приобрел самые развитые и дифференцированные формы [4] Назаренко 1987b. С. 149–157; он же 2000а. С. 500–519; см. также статью III.
.
Возможно, впрочем, что отчасти такое впечатление имеет причиной относительно благоприятное состояние источников по данной теме применительно именно к Древней Руси и особенно Франкской державе. Это, однако, не означает, что все этапы эволюции corpus fratrum на древнерусской почве в равной и должной мере обеспечены источниками и вполне ясны. Вот почему привлечение сравнительно-исторического материала других династических традиций, пусть в целом и меньше освещенных источниками, чем древнерусская, может быть полезным историку-русисту для прояснения как исторической сути дела, так и ситуации в историографии, в которую уже прочно вошли и даже до известной степени «канонизировались» некоторые не всегда основательные типологические наблюдения из области династического устройства Древней Руси.
В истории древнерусского княжеского дома раздел между сыновьями киевского князя Ярослава Мудрого (1019–1054), предпринятый по завещанию последнего – так называемый «ряд» Ярослава – сыграл, как известно, эпохальную роль. Сообщение «Повести временных лет» об этом завещании неоднократно обсуждалось в науке [5] В качестве примера назовем только несколько недавних работ: Толочко 1992. С. 31–35; Котляр 1998. С. 150–176; Свердлов 2003. С. 434–143.
. И это понятно, поскольку уделы Ярославичей, их границы, послужили исходной точкой формирования будущей территориально-политической структуры Руси – земель-княжений XII в., а само завещание Ярослава Владимировича рассматривалось впоследствии (например, на известном Любечском съезде князей 1097 г.) как безусловное правовое основание существования этих земель в качестве отчин соответствующих ветвей княжеского семейства [6] ПСРЛ 1. Стб. 256–257; 2. Стб. 230–231.
. Одним из главных моментов, связанных с завещанием 1054 г., который привлекал внимание исследователей, был провозглашенный «рядом» сеньорат (или, по древнерусской терминологии, старейшинство) старшего из остававшихся к тому времени в живых Ярославичей – Изяслава.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу