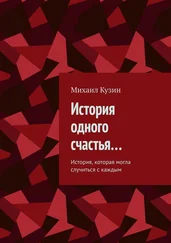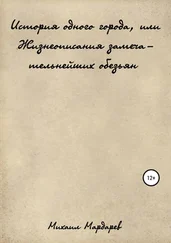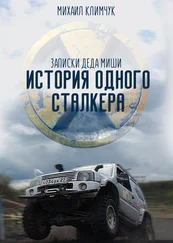Каган избирался всегда из одной и той же знатной фамилии, члены которой в X в. не отличались богатством. Истахри сообщает, что на одном из рынков Итиля можно было видеть молодого человека, продававшего хлеб, о котором говорили, что после смерти жившего тогда кагана - он ближайший кандидат на его место. Члены этой фамилии, принявшие мусульманство, теряли право на место кагана; каганом мог быть только иудей 55.
При возведении нового кагана на престол выполнялся обряд, близко сходный с имевшим место при аналогичных обстоятельствах у орхонских тюркютов. Царь набрасывал кагану на шею шелковую петлю и давил его до тех пор, пока тот не начинал задыхаться; тогда его спрашивали- сколько лет он желает царствовать? Полузадушенный каган называл то или иное число и тогда его возводили на престол. Если, процарствовав названное им самим время, каган не умирал, его убивали 56.
Положение хазарского кагана напоминает роль, которую у многих народов играл воплощавший божественную силу священный царь, который с угасанием своей магической способности должен был умереть, чаще всего от руки своего преемника57. В положении хазарского кагана очень много общего с таким царем. С другой стороны, еще Масуди предполагал, что семья, из которой выбирали хазарских каганов, первоначально обладала всей полнотой власти58. Согласно «Худуд ал-алем», хазарские каганы происходили из рода Ашина59. Положение хазарских каганов, сходное с меровингскими королями или японскими микадо, могло сложиться по той же причине, а именно, в результате узурпации власти новой династией, нуждавшейся в прикрытии авторитетом традиционного правительства.
Потомки тюркютской династии Ашина, правившие в Хазарии, с распадением Западнотюркютского каганата возглавили независимое Хазарское государство. Утратив с течением времени реальную силу и попав в полное подчинение к представителям местной могущественной знати, каганы превратились в символ традиционной власти. Бек - один из наиболее могущественных хазарских князей, захватил власть в государстве и стал действительным царем, хотя и правил от имени кагана - наследника тюркютских владык60. Пиетет, которым пользовались могущественные тюркютские каганы, распространившийся на их бессильных потомков, представлял в руках хазарского царя средство для подчинения своей власти не только простого народа, но и других князей Хазарии и соседних племен. Это заставляло его не только терпеть рядом с собой потомка старой династии, но и оказывать ему величайшее почтение. В глазах народа за каганами оставался наследственный ореол божественной силы, якобы присущей их предкам, владыкам огромной империи, той силы, которая для невежественных масс была залогом их собственного благополучия. Иудейская религия не только не препятствовала развитию этого рода представлений, а наоборот, освящала их аналогией с древнееврейскими судьями.
Царь или бек хазарский пользовался большой властью в своей стране. Он решал дела войны и мира, предводительствовал на войне, повелевал зависимыми князьями, собирал дани и пошлины, судил и наказывал, вообще был полновластным владыкой в своем государстве. Истахри и Ибн Хаукаль сообщают, что хазары настолько повинуются царю, что даже наиболее уважаемые хазарские старейшины лишают себя жизни в том случае, если царь почему-либо признает это нужным, но не желает их открытой казни. Царь окружал себя большой пышностью. Он жил в обширном кирпичном дворце. При выездах его окружала большая, хорошо вооруженная стража. Главная жена царя имела свой двор и жила отдельно61.
Со слов арабских писателей известно, что в Итиле с его разноплеменным населением, исповедывавшим различные религии, царь творил суд и расправу через судей, которые докладывали ему о своей деятельности через особого посредника, а наиболее важные и сложные дела представляли на его усмотрение. В Итиле было семь судей; по два для иудеев, мусульман и христиан и один для язычников; судили они по обычаям и установлениям соответствующей религии 62. Сохранился рассказ об одном судебном деле, решенном самим царем. Спор возник из-за наследства, захваченного приемным сыном умершего в то время, когда его родной сын находился в отлучке по торговым делам. Вернувшись после смерти отца, сын заявил претензию на наследство. Спор был разрешен следующим образом: царь приказал вырыть кости умершего и пролить на них кровь каждого из претендентов на наследство. Кровь приемыша, говорится в рассказе, стекла с костей мертвеца, а кровь родного сына впиталась в них. Таким образом царь установил законного наследника, отдал ему имущество его отца, а приемыша-раба приказал наказать 63.
Читать дальше
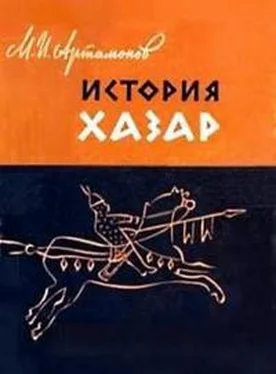
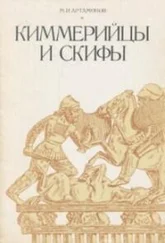
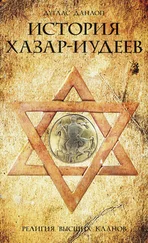
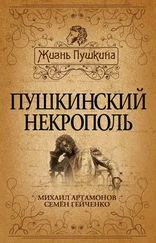
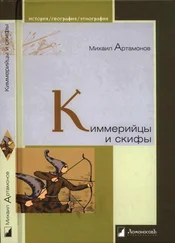
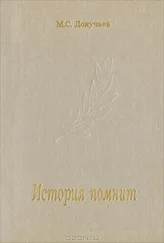

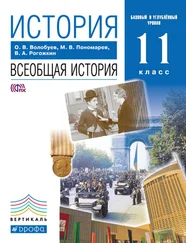
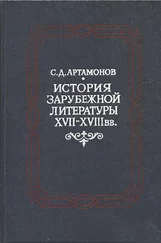
![Михаил Анисимов - История прекрасной дамы (в трёх частях) [litres самиздат]](/books/437567/mihail-anisimov-istoriya-prekrasnoj-damy-v-treh-cha-thumb.webp)