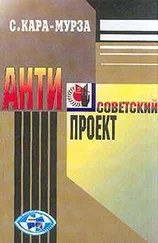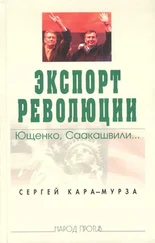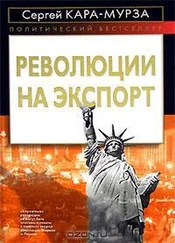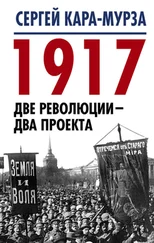В выборах 1923 г. участвовало около 35% избирателей, в 1924 — около 31%, а по оценкам партийного руководства реальное участие в выборах 1924 г. было от 15 до 20%. При этом вырос процент в Советах коммунистов и комсомольцев, что было признаком безразличия массы крестьянства к выборам.
Вопросы советского строительства обсуждали подряд два съезда партии и III съезд Советов СССР. Президиум ЦИК СССР постановил, что выборы 1924 г. отменяются там, где на них явилось менее 35% избирателей. В срочном порядке и в нарушение конституций союзных республик были возвращены избирательные права «лицам, использующим наемный труд» (прежде всего, кулакам), а также другим «лишенцам», например, казакам, воевавшим на стороне белых. Хотя «лишенцев» было немного (около 1,3%), это оказало большое моральное воздействие. Это было непростое решение: Конституция РСФСР 1925 г. восстановила запрет в прежней редакции, но практического эффекта это уже не имело, и Наркомюст издавал инструкции по возвращению избирательных прав. Было запрещено также заранее составлять списки кандидатов.
Повторные выборы весной 1925 г. показали «резкое падение процента коммунистов и бедноты в Советах и высокую активность избирателей». В выборах зимы 1925/1926 г. в РСФСР участвовало 47,3% избирателей (в других республиках еще больше). Связь Советской власти с крестьянством была восстановлена, хотя и дорогой ценой: на селе инструмент власти был передан в руки кулачества, а в партии усилилась оппозиция.
Побочным, но важным результатом всей кампании было то, что центральная власть осознала значение традиционных крестьянских форм власти — сельских сходов. Оказалось, что в период недееспособности сельсоветов именно они предотвратили анархию и полную дезорганизацию. С некоторым запозданием, серией нормативных актов сельские сходы были включены в советскую государственную систему.
Острый вопрос стоял о комсомоле, который стал преимущественно крестьянской организацией: если сельские жители, в основном интеллигенция, составляли лишь 20% состава партии, в комсомоле 59% были крестьяне, причем главным образом середняки (доля батраков была 5-8%).
Сразу после завершения Гражданской войны была начата большая программа по «гашению» взаимной ненависти расколотых частей народа. НЭП во многом и был такой программой. Она была сопряжена с внутрипартийными конфликтами, в частности, с борьбой против «классовиков» — фундаменталистов классовой идеологии (к ним относились, например, группы Пролеткульта, РАПП и др.). Эта сторона НЭПа — особая большая тема.
После Гражданской войны главным изменением в доктрине государственного строительства было становление однопартийной системы — по мере того как союзные и коалиционные левые партии раскалывались — часть переходила в оппозицию к большевикам, многие рядовые эсеры и меньшевики «перетекали» в РКП(б), а лидеры эмигрировали или сосланы в ходе политической борьбы. Идея единства все больше довлела.
В литературе нередко дело представляется так, будто концепция Ленина превратить партию в скелет всей советской системы возникла из-за того, что малограмотные депутаты рабочих и крестьянских Советов не могли справиться с задачами государственного управления. Проблема глубже. Для строительства СССР как большой системы нужна была именно партия нового типа — не классовая, а « соборная », соединяющая общности, которые недавно были сословиями , а не классами.
В целом за период НЭПа сложная проблема интеграции сельских Советов в систему государственной власти была решена. После Гражданской войны демобилизовался миллион младших и средних командиров, выходцев из деревень и малых городов центральной России — « красносотенцы ». Они заполнили госаппарат, рабфаки и вузы, послужили опорой сталинизма.
4. Государство и диктатура пролетариата
В отношениях этих сущностей возникли острые противоречия, не менее сложные как в отношениях Советов и государства. Во всех политических партиях, в том числе и в дореволюционной партии большевиков, в представлениях общества господствовал принцип отношений классов , оформленный в теории классов и классовой борьбы Маркса. Марксисты считали, что социалистическая революция установит диктатуру пролетариата , а до этого, при капитализме, будет существовать гражданское общество — арена холодной борьбы классов.
Маркс, развивая эту теорию, сделал такой вывод в «Критике Готской программы» (1875): «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу