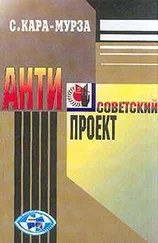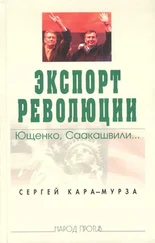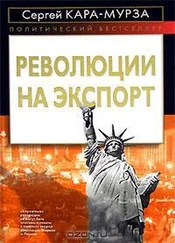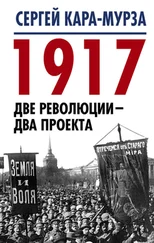Эти рабочие еще не превратились в класс ( пролетариат ) и в общественном сознании причислялись к трудовому люду («Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой»). Сохранение общинной этики и навыков жизни в среде рабочих проявилось в форме мощной рабочей солидарности и способности к самоорганизации, которая не возникает из одного только классового сознания. Это определило необычное для Запада поведение рабочего класса в революционной борьбе и в его самоорганизации после революции, при создании новой государственности. В России сословное общество стало распадаться лишь в конце ХIХ века, и классы возникнуть не успели.
В сословном российском обществе начала ХХ века понятие класса не обозначало социальных сущностей. Н.А. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «В мифе о пролетариате по-новому восстановился миф о русском народе. Произошло как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского мессианизма с пролетарским мессианизмом. Поднялась рабоче-крестьянская, советская Россия. В ней народ-крестьянство соединился с народом-пролетариатом вопреки всему тому, что говорил Маркс, который считал крестьянство мелко-буржуазным, реакционным классом». Таким образом, в России под «пролетариатом» понимался не класс, а именно народ , за исключением очень небольшой, неопределенной группы «буржуев».
В реальной политической практике большевики на первом этапе обращались именно к народному , а не классовому , чувству — потому, что народное чувство было ближе и понятнее людям. Рабочие были для крестьян «своими» и буквально (родственниками) — и по образу мыслей и жизни. Когда в 1902 году начались крестьянские восстания из-за земли, возникло «межклассовое единство низов» — так и произошла революция 1905 года. Только после нее большевики и подняли знамя «союза рабочих и крестьян» — ересь с точки зрения марксизма. А дальше крестьяне отшатнулись от монархии и повернули к революции из-за столыпинской реформы.
Революционный подъем породил совершенно необычный в истории культуры тип — русского рабочего начала ХХ века. Общностью, которая соединила общинное крестьянство с социалистическими группами (в основном, эсерами и большевиками), были молодые грамотные рабочие, недавно перебравшиеся работать в промышленности и не потерявшие связи с деревней. Надо сказать об этом культурном типе начала ХХ века. Он не просто обладал большой тягой к знанию и чтению, которая была вообще характерна для пришедших из деревни рабочих.
Русский рабочий одновременно получил три типа литературы на пике их зрелости — русскую классическую литературу «золотого века», оптимистическую просветительскую литературу эпохи индустриализма и столь же оптимистические пророчества марксизма. Это сочетание во времени уникально. А.А. Богданов в 1912 г. писал, что в те годы в России в заводских рабочих библиотеках были, помимо художественной литературы, книги типа «Происхождение видов» Дарвина или «Астрономия» Фламмариона — и они были зачитаны до дыр. А в заводских библиотеках английских тред-юнионов были только футбольные календари и хроники королевского двора.
Русский рабочий в своем мироощущении соединил Православие и Просвещение, уже слитые в классической русской культуре, с идеалом действия , направленного на земное воплощение мечты о равенстве и справедливости. Сохраняя космическое чувство крестьянина, рабочий внес в общинный идеал вектор реального построения материальных оснований для Царства добра. Эта действенность идеала, означавшая отход от толстовского непротивления злу насилием , была важнейшей предпосылкой к тому, чтобы ответить на несправедливость «детей Каина» революционным сопротивлением. 56
Революционное движение русского рабочего и стоявшего за ним общинного крестьянина было «православной Реформацией» России. В нем был силен мотив жертвенности. Свидетель и мыслитель революции, патриарх русского символизма, на склоне лет вступивший в коммунистическую партию, — Валерий Брюсов написал:
Пусть гнал нас временный ущерб
В тьму, в стужу, в пораженья, в голод:
Нет, не случайно новый герб
Зажжен над миром — Серп и Молот.
Дни просияют маем небывалым,
Жизнь будет песней; севом злато-алым
На всех могилах прорастут цветы.
Пусть пашни черны; веет ветер горный;
Поют, поют в земле святые корни, —
Но первой жатвы не увидишь ты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу