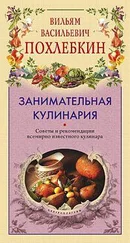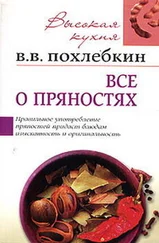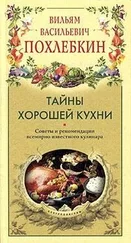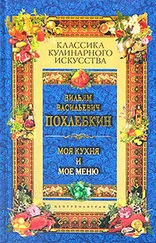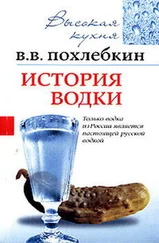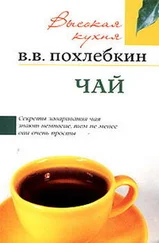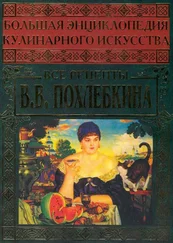Итак, мы отметили четыре рода псевдонимов, которыми пользовался Иосиф Джугашвили в своей политической и литературной деятельности: одни из них были непритязательными, проходными, временными, для сугубо практических целей (переезда, получения квартиры и т.п.); о них Сталин не задумывался и быстро с ними расставался. Другие были с определенным смыслом, с претензией на значимость и они разделялись на две категории – такие, которые были слишком прозрачны и потому долго не удерживались, и такие, над смыслом и значением которых Сталин тщательно размышлял, и которые в силу этого, а также внешних причин – краткость, приспособленность к региону, ясное фонетическое звучание, – обладали стабильным характером и употреблялись и самим Сталиным и его окружением (друзьями, сотрудниками, читателями) устойчиво и постоянно. Наконец, четвертым родом псевдонимов у Сталина были псевдонимы, навеянные определенной обстановкой или ситуацией, и носившие также временный характер. Они отмирали, как только менялась конъюнктура или породившие их условия. Таково было положение, когда Сталину исполнилось 32 года. Он работал в революционном движении уже почти 15 лет, за это время он сменил и использовал два десятка разных псевдонимов. Из них лишь один – Коба – хорошо привился, и обладал смыслом, целиком удовлетворявшим Сталина. Но он не мог быть сохранен далее из-за перемены Сталиным поля своей деятельности, из-за выхода его деятельности за пределы партийных организаций Закавказья, за пределы привычного региона.
Таким образом, вопрос о выборе нового псевдонима (наряду с Кобой или вместо Кобы) встает перед Сталиным практически не ранее осени 1911 г. и связан целиком с новыми перспективами его партийной работы.
Однако особую актуальность этот вопрос приобретает для Сталина в целующем, 1912 году.
7. Сталин знакомится с русским народом. Успехи в партийной карьере И.В.Джугашвили
Год 1912 – решающий в жизни Сталина, в его биографии, и, можно сказать, в карьере профессионального революционера, к которой он всегда относился чрезвычайно серьезно, не в пример некоторым другим. Нельзя забывать, что Сталин был убежденным марксистом, глубоко верившим в непобедимость учения Карла Маркса, в победу революции. Но в отличие от Ленина, с которым его тесно связывали именно эти принципиальные, теоретические установки, Сталин не был чужд соображений карьеры. И он последовательно, шаг за шагом, сознательно делал свою карьеру в революционном движении. И в этом состояло его основное отличие от тех соратников Ленина, которые стояли гораздо ближе к Ленину по образованию, условиям среды, привычкам, социальному статусу и сословной принадлежности, и боролись в революционном движении без всяких карьерных соображений, так сказать, безотносительно своей собственной личности. Именно примером подобных революционеров были Бухарин, Коллонтай, Кржижановский, Крупская, Свердлов, – если говорить о непосредственном ленинском окружении. Троцкий же был явным карьеристом, и именно это обстоятельство обостряло его борьбу со Сталиным, когда они оказались в одной партии после 1917 г. Можно смело сказать, что если бы Троцкий остался после Октября вне партии большевиков, как он был до этого все время, то, вполне возможно, и не было бы всей «борьбы» в партии, не было бы «сталинизма». Троцкий буквально «отравил» собой все отношения внутри партии, внес в нее брожение, как некий «грибок» – это совершенно несомненно для любого историка, объективно и внимательно изучающего историю партии большевиков на фоне всего российского революционного движения. И понимал по-настоящему это обстоятельство только Ленин – вот почему он решительно говорит в «Завещании» о небольшевизме Троцкого, и лишь о грубости Сталина. Никогда, ни в какой степени сомнений в глубине и остроте понимания марксизма, в преданности ему со стороны Сталина – у Ленина не возникало, не было. А именно это и было главное. Но вернемся к Иосифу Джугашвили накануне 1912 г. и к его тогдашним соображениям о своей будущей жизни, деятельности и … о карьере в партии.
С осени 1911 г. Сталин впервые ведет руководящую работу в питерском, столичном подполье, куда попадает после удачного побега из Вологды, удачного не только в чисто техническом отношении, но и с точки зрения того импульса, который он дает Сталину. Тот по-настоящему начинает верить в себя, в свою счастливую звезду и в то, что все его будущее должно быть отныне связано не с Кавказом, не с тамошним местным революционным движением и тамошней крайне тяжелой борьбой с местными меньшевиками и анархистами, а с Россией, с центром русского революционного движения, с Петербургом, и вообще с северо-западным регионом Российской Империи, а не с окраинным Закавказьем.
Читать дальше