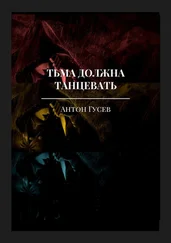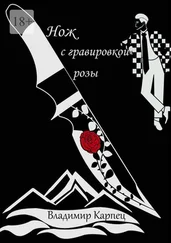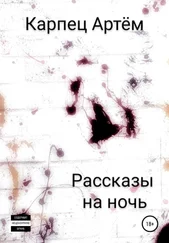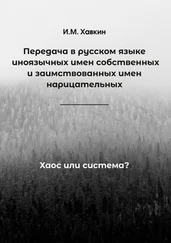Итак, возможно, целью похода Олега Вещего было установление в Киеве не столицы, а русской митрополии, то есть самостоятельной церковной единицы, не связанной с узурпаторским Римом. Сам же Олег похоронен, как предполагается, в Старой Ладоге: «И иде Олег Новугороду и оттуда в Ладогу, есть могыла его Ладозе», — так гласит восстановленная А.А.Шахматовым Начальная летопись. Вообще, как пишет Х.Ловмяньский, «источник выводит Олега с севера, где он правил; однако примечательно, что его столица не названа, хотя Олег должен был иметь главный город, если осуществлял княжеские функции; более того, в самом источнике часто упоминаются названия городов: Смоленск и даже (кроме Киева и Царьграда) Новгород, Псков, Пересечень, Искоростень и т.п.; отсутствие названия столицы Олега не находит объяснения. Трудно поверить, чтобы источник не упомянул в этом контексте Новгорода, если бы, по традиции, Олег имел в нем главный центр власти». Если же мы вспомним устроение меровингского государства на западе, то увидим здесь полнейшую аналогию. И в этом смысле Меровинги-Рюриковичи — Рюрик и Олег — вели себя точно так же, как и их предки — Меровинги западные. Разумеется, до определенного момента, диктуемого прежде всего военными интересами. И с одним исключением: славянорусский язык Православной Церкви не растворял речь руси (в отличие от латыни «западной руси» — франков) в местных наречиях, а, напротив, подчинял их. Но со столицей (как, кстати, и с правом, что есть тема отдельная) аналогия действительно почти полная. Что может быть названо столицей, например, при Дагоберте I? Париж? Реймс? Турнэ? Или Стене, родовой замок в Арденнах, возле которого он и был убит? В этом смысле Олег Вещий действует в полном соответствии с родовой традицией, то есть не имеет однозначно определенной столицы, а в Киеве видит, по-видимому, будущий церковный центр. Может быть, именно потому, что Киев (Самбатас) был в значительной степени иудейским городом — столь явна в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона полемика с иудеями — а их обращение в Православие считалось раннею Церковью одной из важнейших задач, как и задачей государственной: вспомним, что в VI веке галло-римские иудеи были обращены в християнство меровингским королем Дагобертом I.
Характерно, что захват Киева, столь часто оплакивавшийся либеральной интеллигенцией ХIХ века, вовсе не был воспринят как таковой местным населением. То, что этому населению был предъявлен «сын Рюриков», свидетельствует о том, что киевляне знали, кому действительно предназначено властвовать. Более того, очевидно, и еврейское население признавало за его династией легитимность, и потому в большинстве своем также приняло християнство (как и в случае с Дагобертом 1). На отсутствие какого-либо сопротивления приходу Рюриковичей в Киев обращал внимание еще Эверс. Следовательно, Аскольд и Дир рассматривались как узурпаторы, а власть их как незаконная, в лучшем случае временная.
И сразу же после вокняжения в Киеве начинается первый поход Олега Вещего на хазар, тот самый, воспетый Пушкиным… «Может показаться странным, — пишет В.В.Кожинов, — что освобождение Олегом Южной Руси от хазарской власти началось со свержения Аскольда. Но, как установила С.П.Плетнева, „хазары сохранили всю правящую верхушку побежденных народов, связав ее с собой вассалитетом“. Поэтому свержение Аскольда и война с хазарами преследовали одну цель».
Наконец, поход Олега Вещего был тем, что в юридической науке называется «фиксацией права». Как пишет В.Я.Петрухин, Олег «объявляет самозванцами Аскольда и Дира, княжащих в Киеве, и садится сам, как законный князь». Олег распространяет на Киев действие русского (то есть меровингского) династического права, расширяет, как бы мы сказать сегодня, «правовое пространство». Он ни при каких условиях не мог бы сделать этого, не будучи воспринят как представитель «неотмирного», небесного, «потустороннего» начала, от имени этого начала действующий. «Во всех без исключения древних обществах, — писал исследователь истории права В.А.Якобсон, — первыми законодателями считались личности легендарные, „культурные герои“ или даже божества. Однако важно подчеркнуть, что общество рассматривало этот опыт (фиксацию права) не как нововведение, а как исправление возникших несправедливостей».
И, наконец, еще одно, поистине поразительное свидетельство паримийного характера, свидетельствующее о духовно-генеалогической гомологии Дома Рюриковичей и Дома Царепророка Давида, свидетельствующее о единстве и неразрывной преемственности Царской линии, «красной нити» истории, на которое обратил внимание современный русский исследователь Роман Багдасаров:
Читать дальше