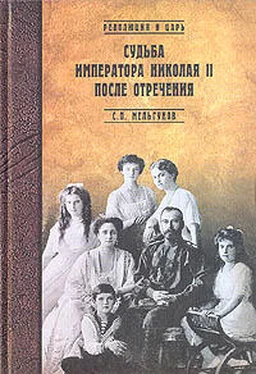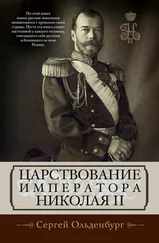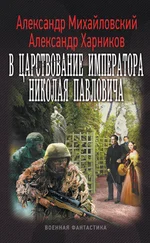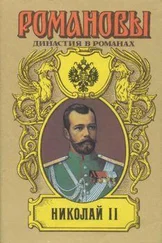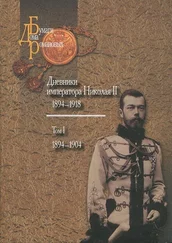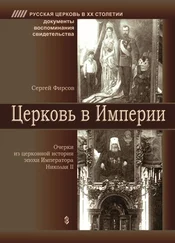Фортуна предпочитала как-то боком обходить последнего русского царя, даря ему даже в излишестве грозные предзнаменования. Если не считать чуть не окончившегося смертельным исходом покушения на молодого великого князя в Японии, все началось со злосчастной Ходынки, окрасившей кровавым заревом восшествие нового императора на престол. Далее следовало на фоне весьма ощутимых успехов державы в экономической сфере явное приближение всеобщей смуты, ускоренное «позорной» Русско-японской войной. 6 января 1905 года, за несколько дней до Кровавого воскресенья, после которого колесница русского самодержавия все стремительнее стала скатываться с вершины своего могущества в пропасть небытия, во время празднования водосвятия на Неве с Петропавловки в ряду холостых прогремел по Зимнему и один боевой выстрел, который, миновав, к счастью, государя императора, убил городового по фамилии… Романов.
А сколько было ужасных пророчеств гадалок, улавливавших в тумане времени черты грядущей трагедии. Настоящим роком императорской четы стало долгое ожидание наследника престола, появившегося на свет лишь после четырех дочерей, и его страшная, неизлечимая болезнь, оставлявшая мало надежд на долгую жизнь Алексея.
Вспыхнувший пожар мировой войны, охвативший своим пламенем и Россию, приблизил развязку. За отречением императора последовало почти полуторагодовое хождение его по мукам унизительной арестантской жизни, окончившееся жуткой расправой в Екатеринбурге. Николаю II суждено было стать четвертым «убиенным» императором (не считая низложенного Ивана VI, убитого в Шлиссельбургской крепости при попытке его освобождения): первые двое (Петр III и Павел I) пали от рук дворцовых заговорщиков, давших показательный пример «неприкосновенности» особ царского рода, третий (Александр II) и четвертый – от рук революционеров-народовольцев и большевиков. Однако участь первых трех была куда завиднее. Достаточно сказать, что рано или поздно на царский престол всходили их дети. В Екатеринбурге же мучительную смерть приняли все члены императорской семьи, в том числе малолетний наследник: революционный 1918 год «воскресил» в этом отношении практику смутных времен российского средневековья.
Кровь, пролитая большевиками в Екатеринбурге, а также в Перми, Алапаевске, Петрограде, где были казнены другие представители дома Романовых, легла на новую власть несмываемым пятном, очистить которое не удастся никогда и никому. Примечательно, что эти жертвы были принесены на алтарь революции еще до того, как в стране после покушения на Ленина был официально объявлен красный террор. (После этого спрашивается, кто же первый развязал террор – белые или красные?)
Неудивительно, что фигура последнего самодержца с момента его отречения и особенно в первые годы после его смерти вызвала широкий поток литературы, распадавшийся на два основных русла: если на родине императора последний стал представать все чаще в образе глупого, но кровавого тирана, то в среде русского зарубежья проявлялась тяга к изображению его как святого и великомученика. Даже сегодня, в пору, когда Николай II вновь выдвинулся в ряд самых притягательных исторических фигур, эти полярные оценки все еще сохраняют свою жизнь, сталкиваясь между собой и усиливая интерес к истинному облику «тринадцатого императора».
Для того чтобы восстановить, хотя бы частично, черты этого затуманенного временем облика, российским читателям и предлагается ознакомиться впервые с замечательной книгой историка С. П. Мельгунова «Судьба императора Николая II после отречения. Историко-критические очерки». Этот труд занимает особое место в его творчестве, завершая трилогию «Революция и царь», которую Мельгунов задумал еще в 1930-е годы. Кроме этого произведения в трилогию входят книги историка «Легенда о сепаратном мире» и «Мартовские дни 1917 года», однако определенным вступлением к циклу является книга «На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917 года» (1931), в которой автор описал, какая паутина заговоров плелась в России против самодержавия и какое участие принимали в них масоны. Мельгунов одним из первых приподнял завесу тайны над участием в Февральской революции масонских сил и вызвал тем самым на себя огонь критики тех представителей эмиграции, которые, запутавшись в своих масонских связях и устремлениях, способствовали вольно и невольно «раскручиванию» трагедии, которая привела Россию на край бездны. Не были в восторге от такой правды и советские историки, которые склонны были видеть движущие силы революции в народных массах, а не в среде масонов-заговорщиков. «Загадочное явление казалось мифом и легендой, и вдруг это оказывается действительностью», – писал историк в своей книге и приходил к выводу, что «масонская ячейка и была связующим как бы звеном между отдельными группами “заговорщиков” – той закулисной дирижерской палочкой, которая пыталась управлять событиями, приведшими к отречению Николая II».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу