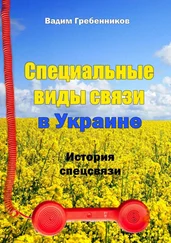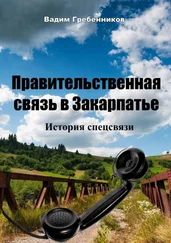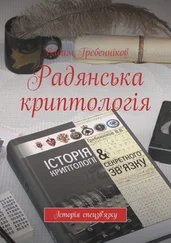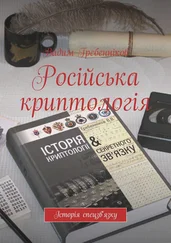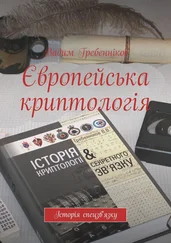Не желая «рушить» перспективу достижения торгового соглашения, Ллойд Джордж тем не менее посчитал необходимым отреагировать на праведный гнев своих министров, причина которого крылась в дешифрованных документах, свидетельствовавших о «подрывной» деятельности «большевиков». 10 сентября премьер-министр обвинил Л. Б. Каменева, прибывшего в Лондон в августе в качестве руководителя советской торговой делегации, в «грубом нарушении данных обещаний» и в использовании различных методов подрывной деятельности. Заместителю руководителя советской делегации Л. Б. Красину позволили остаться.
Л. Б. Каменеву же, который на следующий день должен был вернуться в Россию для получения новых инструкций, было объявлено, что ему не будет разрешено въехать назад в Великобританию. Ллойд Джордж заявил ему, что он имеет неопровержимые доказательства, подтверждающие выдвинутые против него обвинения, однако отказался сообщить, какие именно.
По-видимому, советская делегация все-таки поняла, что ее телеграммы были перехвачены и дешифрованы. А уже в августе Кабинет министров Великобритании дал согласие на публикацию части перехваченной информации. Восемь дешифрованных телеграмм, доказывающих, что советское правительство оказывало финансовую помощь газете «Дейли геральд», были переданы в редакции всех общенациональных газет, за исключением самой «Дейли геральд».
Для того чтобы ввести «большевиков» в заблуждение относительно источника информации и попробовать убедить их в том, что утечка произошла в Копенгагене в окружении советского дипломата М. М. Литвинова, этот материал был передан в газеты с условием ссылки на «нейтральную» страну. Однако газета «Таймс» не приняла условий игры. К крайнему недовольству Ллойд Джорджа, она начала свою статью со следующих слов: «Эти радиограммы были перехвачены британским правительством».
10 сентября 1920 года Л. Б. Красин написал из Лондона письмо В. И. Ленину:
«Еще в мае в бытность в Копенгагене по некоторым признакам я начал подозревать, что с шифрованной перепиской через Наркоминдел не все обстоит благополучно. В Англии мои подозрения укрепились, и в последующий мой приезд в Москву я обращал внимание тов. Чичерина на необходимость коренной чистки в соответствующем отделе… Дело не в провале шифра или ключа, а в том, что в Наркоминделе неблагополучие, так сказать, абсолютное и лечить его надо радикально… По-моему, поправить дело можно только созданием при Наркоминделе шифровального отделения независимо от самого Комиссариата и персонально подобранного из людей либо по партии, либо лично известных в течение десятка — полутора лет… Кроме того, надо завести особый ключ с Оргбюро или Политбюро и особо важные депеши посылать этими ключами, совершенно эпатируя К[омиссариа]т в деле их расшифрования. Не думайте, что все это излишняя мнительность, нет, дело обстоит очень серьезно…»
Однако сам В. И. Ленин совсем не разделял подозрений Л. Б. Красина относительно предательства в НКИД. 25 ноября 1920 года он опять обратился к Чичерину: «Вопросу о более суровом контроле за шифрами (и внешнему, и внутреннему) нельзя давать заснуть. Обязательно черкните мне, когда все мероприятия будут приняты. Необходимо еще одно: с каждым важным послом (Красин, Литвинов, Шейнман, Иоффе и тому подобное) установить особенно суровый шифр только для личной расшифровки, то есть здесь будет шифровать особенно надежный товарищ, коммунист (возможно, лучше при ЦК), а там должен шифровать или расшифровывать лично посол (или „агент“), не имея права давать секретарям или шифровальщикам. Это обязательно (для особенно важных сообщений, 1–2 раза в месяц по 2–3 строки, не больше)».
Ответ был дан на следующий день: «Вообще вопросом о лучшей постановке шифровального дела в Республике занимается комиссия тов. Троцкого… Единственный особо строгий шифр есть книжный. Пользоваться книжными шифрами можно лишь в отдельных случаях вследствие крайней громоздкости этой системы. Требуется слишком много времени. Для отдельных наиболее секретных случаев это можно делать. В начале все наши корреспонденты имели книги, но вследствие слишком большой громоздкости этой системы постепенно отказались. Можно будет восстановить эту систему для отдельных случаев, пользуясь оказиями для извещения корреспондентов».
После этого советская торговая делегация в Лондоне получила инструкцию пересылать свою корреспонденцию по возможности курьерской почтой — до разработки новой системы шифра. Э. К. Феттерлейн и его английские коллеги в течение нескольких месяцев не могли разгадать новые советские шифры, введенные в действие в начале 1921 года. Но уже к концу апреля они вновь смогли дешифровать значительную часть советской дипломатической переписки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
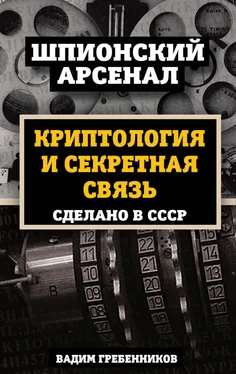



![Вадим Гребенников - Американская криптология [История спецсвязи]](/books/417207/vadim-grebennikov-amerikanskaya-kriptologiya-istori-thumb.webp)