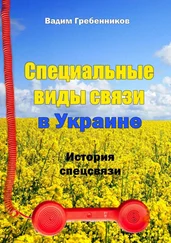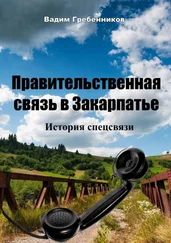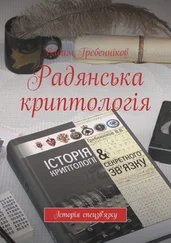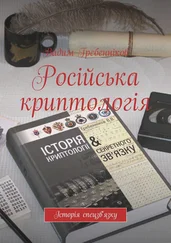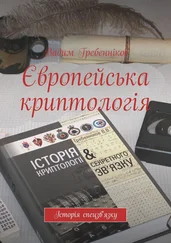Для большего удобства пользования такой сложной системой шифра использовался прибор «Скала». Этот деревянный прибор содержал вертикальную целлулоидную ламу с десятью пустыми клетками, размер которых совпадал с длиной шифровальных столбцов в книге. Шифровальщик вписывал в клетки ламы цифры, соответствующие указанному ключу (номеру столбца), и прикладывал прибор последовательно к шифровальным столбцам. Каждый раз выходила подстановка для шифрования.
Номер начального столбца шифровали особо. Для этого шифровальщик три раза подряд выписывал номер начального столбца (3 Ч 4 = 12 цифр) и добавлял дважды записанный номер последнего используемого столбца (с целью, чтобы помочь расшифровать текст при каких-либо сбоях или ошибках). В результате выходил «указательный ряд» из двадцати цифр. Например: 2563 2563 2563 4812 4812. Далее брался столбец, указанный «Цифирным» отделением в качестве ключа (столбец, выписанный на ламе), и столбец, стоявший рядом с ним (10 + 10 = 20 цифрам). Эта последовательность, называвшаяся «календарным» рядом, записывалась под указательной строкой, после чего производилось вычитание по модулю 10. Полученная строка вставлялась в криптограмму в условном месте.
Как видим, данная система перешифрования была значительно сложнее лозунгового гаммирования короткой периодической гаммой и, очевидно, криптографически более стойкой.
Шифром «Лямбда» были обеспечены «центральные и все штатные заграничные учреждения МИД, а равно чиновники МИД при наместнике Е[го] И[мператорского] В[еличества] на Кавказе и начальнике Закаспийской области и чиновники по дипломатической части при Приамурском, Туркестанском и Иркутском генерал-губернаторах». На время войны этим шифром обеспечивалась также дипломатическая канцелярия при штабе Верховного Главнокомандующего.
Во время Первой мировой войны организацией шифросвязи в МИД занимался «Цифирный» комитет. В 1915 году в него входили А. А. Нератов, В. Арцимович, Н. И. Базили, барон К. И. Таубе, Э. Феттерлейн, Ю. А. Колемин, М. Н. Чекмарев, Н. Г. Шиллинг, И. И. Фан-дер-Флит. Члены этого комитета были в курсе всех вопросов, связанных с организацией шифросвязи в России. В частности, члены комитета имели информацию обо всех шифрах, использовавшихся на линиях связи, о действующих системах ключей и т. п.
Война показала, что Россия не смогла предусмотреть опасность затягивания со своевременным введением новых специальных шифров и кодов на военный период по линии МИД. Уже к концу 1914 года стало понятно, что действующие коды не обеспечивали в достаточной мере тайну шифрованной корреспонденции и вместе с тем не позволяли ускорить сам процесс шифрования. Министерством было предложено срочно изготовить для снабжения своих учреждений:
особые словари в десять тысяч знаков, наборных и разборных: дипломатический русский, дипломатический французский, два восточных и консульский;
словарные наборные и разборные таблицы с особыми вертикальными шифрами;
особые ключи для перешифрования.
Однако через два года, осенью 1917-го, в докладе, представленном руководством шифровального отдела Временному правительству, констатировалось, что выполнение этой запланированной в начале 1915 года программы провалилось и пришлось в качестве временных мер вводить более слабые шифры — «трехзначные словари».
5 октября 1917 года руководитель шифровального отделения МИД Юрий Александрович Колемин (1874–1958) подал подготовленную им вместе с его помощником Михаилом Николаевичем Чекмаревым докладную записку на имя министра иностранных дел С. Д. Сазонова. В ней Ю. А. Колемин изложил конкретные предложения по организации корпорации работников криптослужбы, деятельность которой была бы обусловлена соответствующими гарантиями как экономического, так и морального свойства, и, что не менее важно, корпорации, свободной от протекционизма и других изъянов.
Он писал: «Отделение [шифровальное] теперь функционирует. Но я не вижу возможность, чтобы оно оказалось впоследствии жизнеспособным без проведения в жизнь указанных мной принципов, которые, по моему глубокому убеждению, могут быть изменены в частностях, но не по существу». Иначе дело придет «к неминуемому банкротству, последствия которого могут быть для нас бесчисленными».
Необходимость реорганизации деятельности криптослужбы в целом понимали и руководители министерства. Но вопросы пытались решить лишь формально, хотя и был подготовлен проект, в котором была сделана попытка скопировать подобную немецкую специальную службу. В этих условиях и появился документ Ю. А. Колемина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
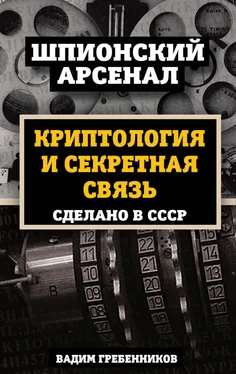



![Вадим Гребенников - Американская криптология [История спецсвязи]](/books/417207/vadim-grebennikov-amerikanskaya-kriptologiya-istori-thumb.webp)