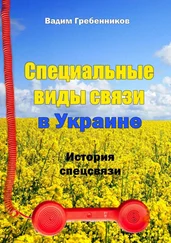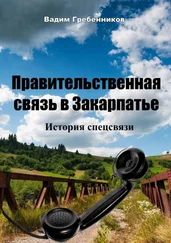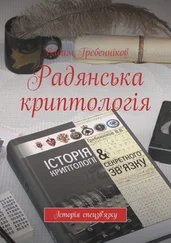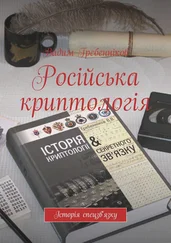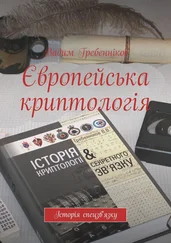2. Увеличение скорости передачи двоичных сигналов по каналу связи в три-четыре раза. Постановка таких работ определялась тем, что в то время телеграфные каналы связи обеспечивали максимальную скорость передачи 1200–1800 бит в секунду, а дискретизация речи могла вызывать двоичную последовательность с существенно большей скоростью.
3. Разработка высокоскоростного шифратора, который бы работал на скоростях во много десятков раз выше скорости телеграфного шифратора.
4. Создание нового направления в криптологии — криптоанализа и обеспечение стойкости высокоскоростного шифратора.
Эти четыре фундаментальных проблемы лаборатория должна была решить в самые сжатые сроки. Приказ МГБ об образовании лаборатории предусматривал срок готовности лабораторных образцов аппаратуры к 1 мая 1949 года. Если учесть, что лаборатория ОПС могла переехать в еще не отремонтированное помещение только 31 марта 1948 года, то на решение фундаментальных проблем оставалось только 13 месяцев.
5 февраля 1948 года состоялось принятие от МВД объекта «Марфино», который стал спецтюрьмой № 16 МГБ или «объектом № 8». Объект располагался на окраине Москвы и соединялся с городским центром маршрутом автобуса № 37, проезжающим мимо объекта около двух раз в час. Раньше здание принадлежало духовной семинарии, потом в нем размещалась детская колония МВД.
Состояние объекта было ужасным. Еще ужаснее было внутреннее состояние помещений: в коридорах не было ни пола, ни потолков. Ситуация напоминала зиму 1941 года, когда эвакуированная на восток из западных районов СССР промышленность начинала работу «с колес».
Руководство министерства, отдела и лаборатории задействовали самые активные методы по ускорению ремонтных работ:
— 4 марта был согласован и утвержден договор с Госпромстроем о проведении ремонтных работ;
— 17 марта было принято постановление СМ СССР по снабжению объекта стройматериалами.
— 20 марта был введен в эксплуатацию первый этаж для размещения подразделений лаборатории;
— 30 марта перебазировалась на объект лаборатория ОПС.
Однако в здании отсутствовала главная лестница, большая часть комнат не была отремонтирована. Только в июне 1948 года лабораторный корпус был отремонтирован окончательно. Перед переездом в Марфино сотрудников ОПС предупредили, что придется работать вместе с заключенными, и проинструктировали, как нужно строить взаимоотношения с ними.
Жизнь заключенных Марфинской лаборатории на протяжении суток можно было разделить на две половины: с вечера до утра — тюрьма со всеми вытекающими унижениями достоинства человека, и с утра до позднего вечера — тяжелая, напряженная работа, но для многих интересная. Первая часть была описана Александром Исаевичем Солженицыным (1918–2008) в книге «В круге первом», а вторая — Константином Федоровичем Калачевым (1915–2001) в книге «В круге третьем».
К концу 1948 года в Марфинской лаборатории работало 490 человек, из них 280 заключенных. Среди заключенных были люди разной профессии и уровня знаний. А. И. Солженицын сначала до сентября 1948 года работал в группе № 3, в состав которой входили В. Г. Владимиров (руководитель группы), доктор технических наук В. А. Тимофеев и А. И. Парфиянович.
Перед группой № 3 было поставлена глобальная задача — теоретическая разработка основ проектирования систем телефонного шифрования. В ежемесячных обзорах работы групп Марфинской лаборатории работа группы № 3 оценивалась негативно. Такая оценка была дана и работе самого А. И. Солженицына, поскольку он не проявил желания работать в группе. Поэтому группа была расформирована, ее работники В. Г. Владимиров и В. А. Тимофеев вошли в состав группы № 2, а А. И. Солженицын и А. И. Парфиянович — в состав акустической лаборатории, научным руководителем которой был Авраам Менделевич Трахтман (1918–?).
В акустической лаборатории А. И. Солженицын проработал приблизительно до середины 1950 года, занимаясь организацией артикуляционных испытаний. Как он сам написал в книге «В круге первом», в середине 1950 года он был этапирован в лагеря за отказ работать над криптологическими проблемами.
В апреле — декабре 1948 года начальник Марфинской лаборатории А. М. Васильев издал 92 распоряжения, определявшие деятельность лаборатории. Из них восемь о «нерадивом» отношении к работе отдельных заключенных. Наиболее характерные недостатки — это занятие посторонними делами вместо работы и «халатное» отношение к работе: писание писем, скрытое прослушивание радиопередач самодельным приемником, драка между заключенными, несобранность и невнимательность, а в результате — сломанные отдельные детали и приборы, материальные убытки. Наказания были следующими: за драку — карцер, за небрежность и занятие посторонними делами — выговор. Следует отметить, что и штатный состав также получал дисциплинарные взыскания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
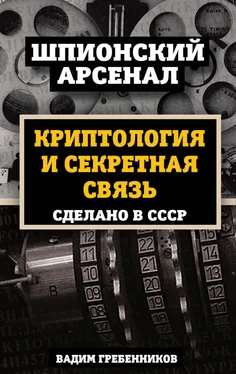



![Вадим Гребенников - Американская криптология [История спецсвязи]](/books/417207/vadim-grebennikov-amerikanskaya-kriptologiya-istori-thumb.webp)