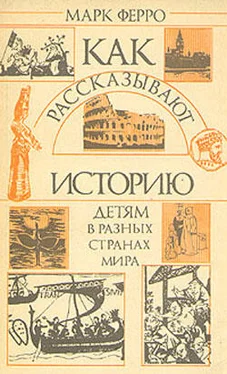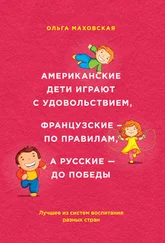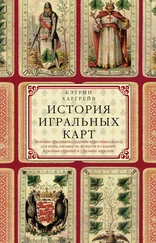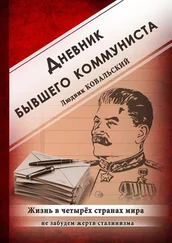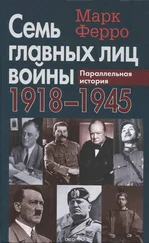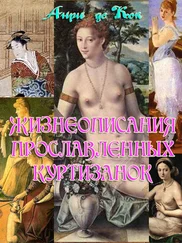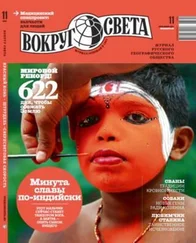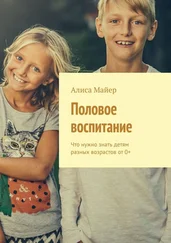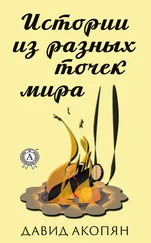История, преподаваемая детям, зависит от западной истории и вместе с тем следует арабо-мусульманской историографической традиции, которая по самой своей природе связана с выполняемыми ею функциями.
Начиная с эпохи халифов [35]мусульманские правители желают знать о подвигах своих предшественников, чтобы сравняться с ними и их превзойти. Понятно поэтому, чем объясняется значительное место истории в исламских странах, почему она «должна представлять государям хороший и плохой пример», согласно Ибн ал-Асиру, историку конца XII – начала XIII в. Особую роль играют вследствие этого биографии; их по частицам собирают писцы и государственные чиновники – арабы, персы или турки. И таким образом история обретает строго утилитарное назначение, она ограничивается определенной функцией и не должна содержать в себе никаких оценок, никакого философского осмысления.
Но если в жанровом отношении история ислама следует биографической традиции, то в не меньшей степени она является также детищем аравийских племен, и эта почвенная основа глубоко проникает в нее. Именно идея отождествления ислама с арабами является точкой сосредоточения самых острых конфликтов между народами исламских стран. По-видимому, именно в Египте в XVIII в. почвенное и национальное самосознание стало конкурировать с мусульманским самосознанием: это было реакцией на господство Турции. По крайней мере, этот процесс отразился в историографии. Понятие «ватан» – родина – возобладало отныне над идеалом верности династии, каковы бы ни были ее связи с Пророком. Вскоре вновь стало высоко цениться доисламское прошлое Египта, как в Иране – прошлое древней Персии. Впрочем, затем объектом почитания и исторического познания становятся не столько земля Египта или Ирана, сколько нация сама по себе, например египетский народ, отождествляемый с арабами вообще.
В XX в. стремление к арабизации истории ислама было провозглашено во всеуслышание на конференции по арабской культуре Лиги арабских стран; предусматривалась «унификация учебников по истории, придание единообразия образованию, при котором будет сделан акцент на участие арабов в развитии цивилизации и в борьбе против империализма». Что верно для истории, верно и для литературы. И вот уже в 1964 г. в Объединенной Арабской Республике клеймят писателей, которые «под предлогом ломки, изменения поэтических ритмов доходят до предательства арабизма». На самом деле «новые поэты» хотели сломать каноны арабской классической поэзии, чтобы добраться до местных, не обязательно арабских, народных источников. Это движение в поэзии не получило большого отклика. Зато в каждой стране, несмотря на указания Лиги арабских стран, история сохраняет свое национальное содержание, возрожденное, по крайней мере в Египте, в XIX в. Это движение, испытавшее влияние Запада, родилось с Шейхом Рифа'а Рафи ал-Табави, пионером не арабской, а египетской истории Египта. В других странах восстановление доисламского и доарабского прошлого происходило медленнее, особенно в Ираке, где только при режиме Саддама Хусейна стали проявлять некоторый интерес к Вавилону. Но в Иране, где лишь на юге страны говорят по-арабски, или даже в Алжире история, как будет видно, имеет мало общего с общеарабской нормой, которая выражается в наиболее чистом виде в учебниках, предназначенных для иракских детей. В Египте «фараонизм» обнаруживается уже во введении к первой книжке по истории.
«В этой книжке правдиво рассказывается о прошлом, но не для того, чтобы превознести дела минувшего, а для того, чтобы ты над ними задумался, задумался над тем, что позволило твоим предкам достичь столь высокого уровня культуры, что побудило их рассчитывать на самих себя и браться за разрешение проблем, которые ставит жизнь, проявляя при этом рассудительность, трудолюбие, настойчивость и помогая друг другу.
Нет сомнений, что те факторы, которые помогли нашим предкам в древнем Египте встать впереди народов мира, налицо и сегодня. Так пусть же путь, обозначенный нашими предками, служит для нас путем разбега, когда мы последуем их примеру» (V.27).
Это видение истории дополняется представлением, что арабо-мусульманский мир имеет собственную географию в географии цивилизаций. В своем труде о географах эпохи расцвета арабской цивилизации (V.4) Андре Микель показывает, что если история четко делится на два периода – до Пророка и после, то в географии исламские страны «являются пупом, центром мира». Разумеется, то же самое было в Китае с его Срединной империей, но у арабо-мусульман эта идея выражена наиболее отчетливо и в каком-то смысле оправдана – они действительно в «центре».
Читать дальше