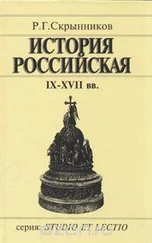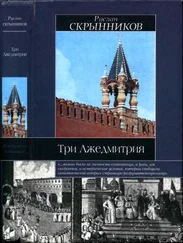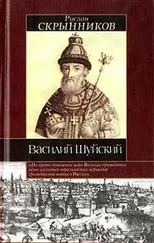Подробно рассказав литовцам о своих тайных переговорах с ливонскими рыцарями и рижанами, Курбский продолжал: «Такие же переговоры он вел с графом Арцем, которого тоже уговорил, чтобы он склонил перейти на сторону великого князя замки великого герцога финляндского, о подобных Делах он знал много, но во время своего опасного бегства забыл». Неожиданная немногословность и ссылка на забывчивость косвенно подтверждают слухи о причастности Курбского к смерти Арца. После бегства в Ливонию боярин принял к себе на службу слугу казненного графа и в его присутствии не раз со вздохом сокрушался о кончине его господина. Не желал ли он отвести от себя подозрения насчет предательства?
Занимая высокий пост царского наместника Ливонии, Курбский имел возможность оказать литовцам важные услуги. Примечательно, что его изменнические переговоры с литовцами вступили в решающую фазу в то самое время, когда военная обстановка приобрела кризисный характер. 20–тысячная московская армия вторглась в литовские пределы, но адресат Курбского Радзивилл, располагавший информацией о ее движении, устроил засаду и наголову разгромил московских воевод. Курбский бежал в Литву три месяца спустя после этих событий.
История измены Курбского, быть может, дает ключ к объяснению его финансовых дел. Будучи в Юрьеве, боярин обращался за займами в Печерский монастырь, а через год явился на границу с мешком золота. В его кошельке нашли огромную по тем временам сумму денег в иностранной монете — 30 дукатов, 300 золотых, 500 серебряных талеров и всего 44 московских рубля.
Курбский жаловался на то, что после побега его имения конфисковала казна.
Значит, деньги получены были не от продажи земель. Курбский не увозил из Юрьева воеводскую казну. Об этом факте непременно упомянул бы Грозный.
Остается предположить, что предательство Курбского было щедро оплачено, королевским золотом. Заметим попутно, что в России не имевшие хождения золотые монеты (дукаты) заменяли ордена: получив за службу «угорский»
(дукат), служилый человек носил его на шапке или на рукаве.
Историки обратили внимание на странный парадокс. Курбский явился за рубеж богатым человеком. Но из–за рубежа он тотчас же обратился к печерским монахам со слезной просьбой о вспомоществовании. Объяснить парадокс помогают подлинные акты Литовской метрики, сохранившие решение литовского суда по делу о выезде и ограблении Курбского. Судное дело воскрешает историю бегства царского наместника в мельчайших деталях. Покинув Юрьев ночью, боярин добрался под утро до пограничного ливонского замка Гельмета, чтобы взять проводника до Вольмара, где его ждали королевские чиновники.
Но гельметские немцы схватили перебежчика и отобрали у него все золото. Из Гельмета Курбского, как пленника, повезли в замок Армус. Тамошние дворяне довершили дело: они содрали с воеводы лисью шапку и отняли лошадей.
Когда ограбленный до нитки боярин явился в Вольмар, то там он имел возможность поразмыслить над превратностями судьбы. На другой день после гельметского грабежа Курбский обратился к царю с упреком: «Всего лишен бых и от земли божия тобою туне отогнан бых.». Слова беглеца нельзя принять за чистую монету. Наместник Ливонии давно вступил в изменнические переговоры с литовцами, и его гнал из отечества страх разоблачения. На родине Курбский до последнего дня не, подвергался прямым преследованиям. Когда же боярин явился на чужбину, ему не помогли ни охранная королевская грамота, ни присяга литовских сенаторов. Он не только не получил обещанных выгод, но подвергся насилию и был обобран до нитки. Он разом лишился высокого положения, власти и золота. Катастрофа исторгла у Курбского невольные слова сожаления о «земле божьей» — покинутом отечестве.
Прибыв в Ливонию, беглый боярин первым делом заявил, что считает своим долгом довести до сведения короля «происки Москвы», которые следует «незамедлительно пресечь». Курбский выдал литовцам всех ливонских сторонников Москвы, с которыми он сам вел переговоры, и назвал имена московских разведчиков при королевском дворе.
Одновременно, будучи в Вольмаре, Курбский решил объясниться с царем.
История первого письма Курбского к царю весьма интересна. В древнейших рукописных сборниках письму сопутствует устойчивое окружение — «конвой», — включавшее записку самого Курбского в Юрьев, послание эмигрантов Тетерина и Сарыхозина к юрьевскому наместнику и обращение литовского воеводы А.
Читать дальше