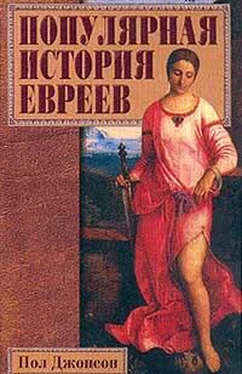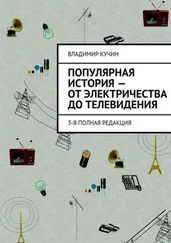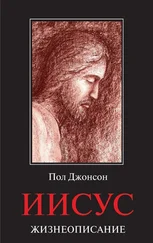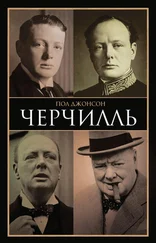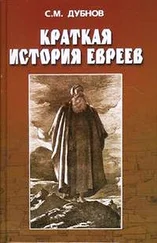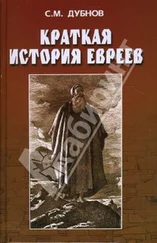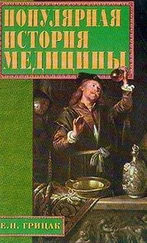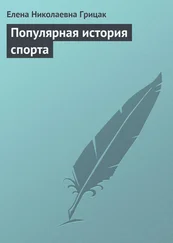Первая реакция Эйхмана на задержание состояла в том, что он признался, что он – это он, и признал как свою вину, так и право евреев наказать его. 3 июня 1960 г. он заявил: «Если это способно сделать акт искупления более внушительным, я готов публично повеситься». Позднее он менее охотно сотрудничал со следствием и придерживался линии, хорошо знакомой еще с Нюрнберга: дескать, он был лишь винтиком в машине, исполняющим приказы кого-то другого. Надо сказать, что на этом суде обвинению противостояла активная, изобретательная, упорная и хитрая защита. Кнессет принял специальный закон, позволявший иностранцу (германскому советнику д-ру Роберту Серватиусу) защищать Эйхмана, причем правительство Израиля выплатило ему гонорар (в размере 30 000 долларов). Процесс был долгим и трудным; в частности, было нелегко доказать компетентность суда и его право судить обвиняемого, несмотря на обстоятельства его ареста. Тем не менее, соответствующее решение было принято 11 декабря 1961 г. Совокупность доказательств делала приговор неизбежным. 15 декабря 1961 г. Эйхман был приговорен к смертной казни, а 29 мая 1962 г. была отклонена его апелляция. Президент Ицках Бен-Цви получил прошение о помиловании и целый день в одиночестве размышлял над ним. В Израиле ни до, ни после никого не казнили, и многие евреи в стране и за ее пределами предпочли бы обойтись без петли. Но подавляющее большинство было согласно с приговором, и президент, как ни старался, не смог найти в деле никаких смягчающих обстоятельств. Одна из камер в тюрьме Рамла была специально оборудована для казни, для чего в полу был устроен люк, а над ним установлена виселица. Около полуночи 31 мая 1962 г. Эйхман был казнен, тело сожгли, а пепел развеяли над морем.
Дело Эйхмана продемонстрировало эффективность, справедливость и твердость действий Израиля. Оно способствовало изгнанию призраков «окончательного решения» и было необходимым этапом в истории Израиля. Однако Холокост оставался фактом, определяющим израильское национальное сознание. В мае 1983 г. израильский Центр исследования общественного мнения Смита проводил опрос, касающийся отношения израильтян к Холокосту. Результаты показали, что подавляющее большинство израильтян (83%) видели в нем решающий фактор, определяющий их видение мира. Директор Центра Ханок Смит сообщал: «Холокост очень сильно повлиял на настроение израильтян, даже во втором и третьем поколениях». Причем отчетливо прослеживалось влияние Холокоста на исторические цели Израиля. Преобладающее большинство (91%) опрошенных считали, что лидеры Запада знали о массовый убийствах, но мало что сделали, чтобы спасти евреев; чуть меньшая доля (87%) были согласны с формулировкой: «Холокост научил нас, что евреи не могут полагаться на неевреев». Около 61% считали Холокост главным фактором образования Израиля, а 62% верили, что существование последнего делает повторение Холокоста невозможным.
В итоге, подобно тому, как коллективная память о рабстве у фараонов преобладала в раннеизраильском обществе, так и Холокост формировал новое государство. В нем неизбежно присутствовало ощущение утрат. Гитлер истребил третью часть всех евреев, в первую очередь благочестивых и бедных, на которых в особенности держался иудаизм. Потери можно оценить и в светских категориях. В XIX – начале XX столетий мир был невероятно обогащен освобожденными талантами, которые буквально фонтанировали из старых гетто; они стали основной созидательной силой цивилизаций Европы и Северной Америки. Этот процесс продолжался до тех пор, пока Гитлер не уничтожил его источник. Никто уже не узнает, что при этом потерял мир. Для Израиля последствия были буквально опустошительными. Они ощущались как на личном уровне, поскольку огромное число его граждан потеряли буквально всю родню и друзей детства, так и коллективно, поскольку на треть уменьшилось количество тех, кто мог бы участвовать в строительстве государства. Но сильнее всего потери ощущались, пожалуй, на духовном уровне. Высшая ценность, которую придавал иудаизм человеческой жизни (вспомним хотя бы о том, как долго и горячо израильтяне дебатировали, прежде чем лишить жизни Эйхмана), делал убийство такого количества людей, особенно бедных и благочестивых, которых любит Господь, событием, с трудом поддающимся восприятию. Даже для простой констатации факта потребовалась бы новая Книга Иова. Эту проблему затронул видный иудаистский богослов Авраам Джошуа Гершель (1907-73), которому удалось вырваться из Польши всего за шесть недель до катастрофы. «Я, – писал он, – как головешка, которую выдернули из огня у алтаря Сатаны, где во имя зла сгорели миллионы человеческих жизней, не говоря уже и о многом другом: божественных образах человеческих существ, вере многих людей в справедливого и сострадательного Бога, которая пестовалась в человеческих сердцах два тысячелетия». Почему это случилось? Новый Сион начинался с этого вопроса, на который ответа не было, а возможно, и никогда не будет.
Читать дальше