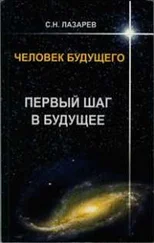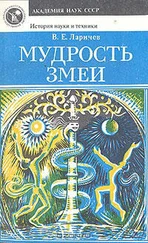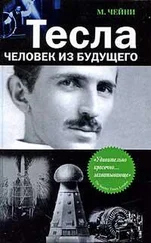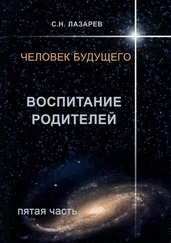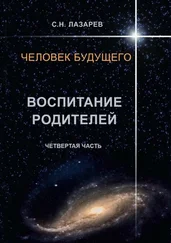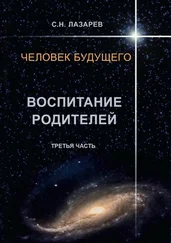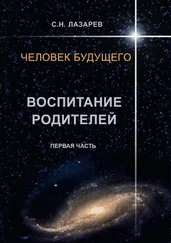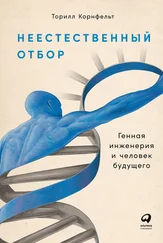Уже некоторое время назад было признано, что неотъемлемая часть раннего человеческого общества — то, что люди делились друг с другом пищей (см. Уошберн и Де Вор, 1961). В частности, Джейн Гудалл (1971) и Ричард Лики (1978) пришли к выводу, что именно это распределение пищи стало ключевым элементом уникального становления человека по меньшей мере два миллиона лет назад. Такая расстановка акцентов, которую начиная с 70-х пропагандировали Линтон, Зильман, Таннер и Айзек, сейчас приобретает все больше сторонников. Один из впечатляющих аргументов в пользу тезиса о сотрудничестве — вместо всеобщего насилия и мужского доминирования — это уменьшение в ходе ранней эволюции разницы между мужчинами и женщинами в размерах и силе. Так называемый половой диморфизм в самом начале был выражен довольно четко, включая такие характерные черты, как выступающие клыки или «боевые зубы» у мужчин, в то время как у женщин клыки были гораздо меньше. Исчезновение больших клыков у мужчин убедительно свидетельствует о том, что женщины осуществляли отбор, предпочитая дружелюбных мужских особей, способных делиться. У большинства самцов современных обезьян клыки больше и длиннее, чем у самок, так как у последних отсутствует право выбора (Зильман 1981; Таннер, 1981).
Еще один ключевой вопрос в ранней истории человечества — это разделение труда между полами — то, что когда-то просто воспринималось как данность и выражено в термине «охотник-собиратель». Сейчас общепризнано, что собирательство растительной пищи, которое раньше считалось полем деятельности исключительно женщин и второстепенным занятием по сравнению с охотой, которой занимались мужчины, на самом деле было основным источником питания (Йохансен и Шрив, 1989). Поскольку женщины не особенно зависели от мужчин в вопросе питания (Хэмилтон, 1984), то, скорее всего, куда важнее было не разделение труда, а гибкость и способность к совместной деятельность (Бендер, 1989). Как показала Зильман (1981), общая гибкость поведения, возможно, была основным свойством древнего человека. Джоан Геро (1991) доказала, что каменные орудия могли с равным успехом делать и женщины, и мужчины, и, действительно, Пурье (1987) напоминает нам, что «нет никаких археологических данных в пользу того, что на заре человечества существовало разделение труда по половому признаку». Не похоже, чтобы собирание пищи требовало глубокого разделения труда, если оно вообще требовалось (Слокум, 1975), и скорее всего, половая специализация появилась в процессе человеческой эволюции гораздо позже (Зильман, 1981, Крейдер и Айзек, 1981).
Итак, если то приспособление, которое создало наш вид, это собирательство, то когда же появилась охота? Бинфорд (1984) утверждал, что не существует указаний на использование продуктов животного происхождения (то есть свидетельств рубки мяса) вплоть до сравнительно недавнего появления современных, с анатомической точки зрения, людей. Исследования окаменелых зубов, найденных в Восточной Африке (Уолкер, 1984), проведенные с помощью электронного микроскопа, наводят на мысль, что рацион их обладателей состоял преимущественно из фруктов, а аналогичные исследования каменных орудий, найденных на раскопках поселения в Кооби Фора в Кении, существовавшего полтора миллиона лет назад (Килей и Тоф, 1981), показали, что их использовали для обработки растительных материалов. Вполне вероятно, что то небольшое количество мяса, которое входило в пищевой рацион, древние люди получали, поедая падаль, а не добывали на охоте (Эренберг, 1989b).
Очевидно, «естественное» состояние для вида — рацион, по большей части состоящий из овощей, богатых клетчаткой, в противовес современному рациону, состоящему из огромного количества жира и животного белка и ведущему к хроническим заболеваниям (Менделофф, 1977). Хотя наши далекие предки, используя свои «всесторонние знания местности и когнитивную картографию» (Зильман, 1981), жили собиранием растительной пищи, со временем археологических свидетельств занятий охотой постепенно становится больше (Ходдер, 1991).
Тем не менее, представление о широком распространении охоты в доисторическую эпоху опровергнуто большим количеством фактов. Например, скопления костей, которые ранее считались свидетельством масштабных убийств млекопитающих, при более тщательном рассмотрении оказались результатом действия потоков воды или же остатками запасов, сделанных другими животными. Работа Льюиса Бинфорда «А были ли в Туральбе охотники на слонов?» (1989) — хороший пример подобного тщательного исследования. В книге автор ставит под сомнение, что 200 тысяч лет назад или ранее древние люди интенсивно занимались охотой. Адриенн Зильман (1981) пришла к заключению, что «охота в процессе человеческой эволюции появилась сравнительно поздно» и что «она, возможно, существовала не дольше, чем последние сто тысяч лет». А многие (см. Страус, 1986; Тринкхаус 1986) не находят признаков серьезной охоты на крупных млекопитающих и позже, вплоть до верхнего палеолита, как раз когда возникла агрикультура.
Читать дальше