- Ходил просить насчет провизии. - Голос ее сухой, надорванный. - Мы сами мужьям говорили, что нельзя же голодом сидеть. Четвертого апреля он ушел со всеми, и ничего я не думала.
- Кто же мог думать? - вставляет Герасим. Он глядит себе под ноги.
В сторонке ребятишки присели на корточки - камешки рассматривают.
- Когда услышали мы в казармах, что случилось, все заревели на стану, от старого до малого, - продолжает женщина.
Маринка осторожно поднимает голову. Прислушивается.
- Побежала я по дороге навстречу, кто-то мне говорит из нашей казармы: "Твой муж ранен". - От слез голос женщины становится внятней и тише. - Побежала я на Надеждинский, подбегаю к мосту, а ротмистр мне машет шашкой, кричит: "Не ходи - застрелю!" Вижу, солдаты поднимают раненых и убитых, а нам нельзя подойти... Побежала я оттуда в больницу - нет его, тогда на феодосиевскую - насилу пропустили. Нашла. Лежит... Пошел нарядился как в церковь, жилетку надел...
Прогромыхавший поблизости паровоз заглушает ее голос. Маринка затыкает себе рот концом смятого платка. Архип гулко откашливается. Только Герасим сидит недвижимо, опустив глаза в землю.
- Он уже был в очень плохом состоянии, очень мучился... - Рассказ женщины то глухой, сдавленный, то звонкий, на высокой, чуть хриповатой ноте. - Я сама обмыла его. Было у него восемь ран, одна пробила пиджак слева под грудью, другая с правого бока вышла в спину, третья ударила в пах, потом еще в руке, повыше кисти, насквозь.
Женщине трудно говорить, да и звуки, из которых складывается начинающийся день, мешают. До слуха Маринки долетают обрывки фраз. Они беспощадно подробны, от них еще более зябко...
- По дороге валялись галоши, шапки... Стражники засыпали кровь углем и опилками. Ротмистр сам приезжал к руднику и объявил - на похороны по пяти рублей. Просили карточки снять, для детей, - запретили.
Женщина умолкает. Она выговорилась. Мальчишки подошли поближе и тоже притихли. Маленький, в короткой вельветовой курточке, потянул мать за юбку.
- Мама, домой пойдем, мы исть хотим!
- И то пора, - согласился Герасим и поднялся, крепко упираясь большой рукой о высокий камень. - Уж скоро по вагонам, - добавил он и пошел вперед.
Встала и женщина, оправляя траурную шаль, а вскоре пошли вслед за ними и Маринка с Архипом. Женщина ступает тихо. Впереди скачут звонкоголосые мальчики. Они скоро уедут с матерью и дедом Герасимом. Маринка тоже уедет со своим пятимесячным сыном. Маленький паровоз призывно гудит, гулко лязгают буфера вагонов, в которых сегодня уезжает последняя партия.
В течение двух месяцев было отправлено двенадцать партий, по тысяче пятьсот человек каждая, а всего с Ленских приисков в знак протеста уехало около двадцати тысяч человек. Для их перевозки правительство вынуждено было предоставить тридцать шесть пароходов и семьдесят две баржи. Рабочие ехали в Черемховский угольный бассейн, на шахты Кузнецка, на заводы и золотые прииски Урала. По всем уголкам необъятной России развозили они проклятие и ненависть к царскому строю.
До Бодайбо по узкоколейке ехали не шибко. Медленно, словно нехотя, уплывала назад суровая витимская земля, слезами и кровью политая, костями усеянная. За окном вагона то зелено мелькала тайга, то черные домишки приисковых поселков. Народ в поселках словно вымер. Только изредка якуты в расцвеченных душегрейках стояли на переездах со стайками оленей, собак и долго махали вслед то высокими шестами, то ружьями.
...А вот уже и позади вагонная духота, сдобренная табачным дымом, плачем детишек, угнетающим стуком колес. Вот и последние, прощальные гудки парохода. Приземистые домишки Бодайбо - этого сибирского Клондайка торопливо бегут за кормой и, отдаляясь, меркнут в лиловой осенней мари. Бурый Витим уже стремительно тащит разбухшие листья - предвестники осени. По гребешкам набегающих волн судорожно хлещут колеса старого парохода, скрипуче вздрагивает рассохшаяся палуба, беспорядочно заваленная разной кладью. У всех бортов покачиваются головы с взлохмаченными на ветру волосами. Протяжный гудок, вторя многоголосому хору, врывается в тревожные слова песни:
Вы жертвою пади в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу.
А мимо бортов угрюмо плывут витимские береговые утесы-великаны, словно прощаясь с песней, вздымают кверху свои могучие каменные руки. Эту печальную и грозную песню поют все. Не скрывая слез, поет старик Герасим Голубенков, поет бывший казарменный староста Александр Пастухов. Поют все.
Читать дальше



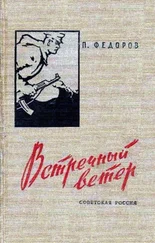

![Павел Федоров - В Августовских лесах [с иллюстрациями]](/books/403965/pavel-fedorov-v-avgustovskih-lesah-s-illyustraciyam-thumb.webp)


