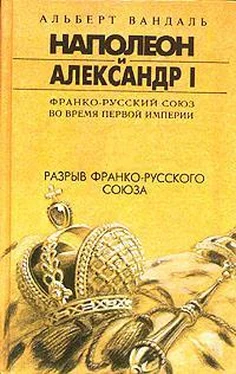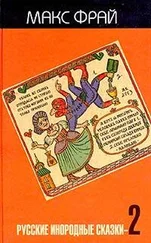Пятнадцать лет непрерывных побед вознесли Наполеона на высоту могущества, но он не наслаждался ни счастьем, ни славой. Новый год сулил ему много радостей: ожидаемое разрешение императрицы давало ему надежду на сына; никогда еще короли не оказывали ему такой почтительной покорности. И, несмотря на все это, по временам он переживал приступы необъяснимой душевной тревоги. Ему казалось, что над будущим витает смутная опасность. В неподвижном и еще спокойном воздухе он чувствовал тяжесть приближающихся гроз.
Его великий ум не обманывался ни относительно опасностей, созданных долго длящейся морской войной, ни относительно непосильных тягот, притеснений и ужасных бедствий, которые она возложила на народы. По собственному его признанию, весь дух его управления оказался извращенным. А между тем ни у кого в такой степени не было развито врожденное влечение к принципам твердой умеренности и справедливости – единственным принципам, обеспечивающим прочную власть над людьми. Он ясно видел, что увлечения внешней политикой выбили его из колеи; что он дошел до тирании; что всюду вынужден заменить авторитет власти деспотизмом. От него не ускользало, что все вокруг него пропитано ненавистью и страданиями; что число его врагов растет с каждым днем, и что пока Англия будет продолжать борьбу, они не потеряют надежды одолеть его. Он не знал, как развязаться с этой войной, которая, поддерживая неуверенность в завтрашнем дне, была источником всех зол, и постоянно подрывала его престиж. Он тщетно спрашивал себя, где средства найти мир, в котором он нуждался не менее самого последнего из его подданных, и иногда “быстро, подавленным голосом, с оттенком нетерпения говорил, что, если англичане продержатся еще некоторое время, он не знает, что из этого будет и что делать” [87].
Средства, придуманные для укрощения соперницы, несмотря на их колоссальное развитие, на суровое, неуклонное применение, не привели ни к чему. На двух окраинах горизонта его непомерно разросшаяся власть встречала свой предел. Север по-прежнему оставался открытым для британских произведений, и эта брешь в блокаде сводила к нулю все результаты, полученные в других местах: Англия страдала, но не гибла. На юге – в Португалии, ему не удавалось прогнать англичан с южной окраины континента, где они высадились и укрепились на неприступных позициях. Тщетно Массена исследовал линии Торрес-Ведрас; он не мог нащупать слабого пункта, не мог найти уязвимого места неприятельской позиции. Он отправил генерала Фуа в Париж с поручением изложить положение дел, умолял о помощи, просил поддержки и совета. Он признавался в своем бессилии: не один раз обещанный, по-видимому, близкий, заранее учтенный им успех не давался ему в руки.
Невольно напрашивается вопрос, почему в это время, когда императору не были еще известны наступательные планы Александра, он не собрал всех своих армий и не нанес смелого удара в Испании; почему не дал принцу Эслингу столько войск, чтобы сбросить англичан в море и кончить, по крайней мере, с этой частью задачи? Дело в том, что Север, где он не видел еще явной опасности, уже озабочивал его, парализовал его действия. Он сознавал, что ожидаемое им примирение России с нашими врагами рано или поздно приведет к тому, что Россия станет на их сторону; что она устроит для него неизмеримо более страшную диверсию, чем долговременная война в Испании; что она, может быть, вынудит его на колоссальное предприятие – поход на Север; что она заставит его нанести жестокий удар англичанам в России и победить их в Москве. И хотя от него ускользали планы царя относительно Польши, он ясно сознавал, что, если Россия, следуя за ним, остановилась и замерла на месте, то спустя некоторое время она начнет менять курс, мало-помалу будет отдаляться от него и направится к Англии. Первое указание на это он увидел в отказе обложить колониальные товары почти запретительным тарифом, равно как и в отказе конфисковать контрабандные суда. Вскоре после того, не имея еще сведений о происходящем, по приказанию Александра, размещении войск на западной границе, он узнает, что русские сооружают много укреплений по Двине и Днепру. Конечно, эти работы, предпринятые в видах обороны, вполне законны. Но не для того ли, думается ему, русские так заботливо прикрывают свои границы, чтобы предохранить себя от последствий замышляемой измены? Заключив мир с Турцией, “не захотят ли они заключить его и с Англией? Это немедленно послужит поводом к войне” [88], – говорится в его переписке. Может быть, Наполеон и Ольденбург-то захватил с целью испытать Россию, выведать ее планы, посмотреть, не воспользуется ли она первым же предлогом, чтобы порвать с ним. В ожидании выяснения этой тайны он не увеличивает своих военных сил в Германии и до поры до времени оставляет Даву без поддержки; он ограничивается тем, что преобразовывает первый корпус, не прибавляя к нему ни одного человека, и только торопит с отправкой предметов вооружения в герцогство Варшавское. [89]Он по-прежнему занимается Испанией, торопит Массена покончить с ней, приказывает другим командирам корпусов оказать ему поддержку и помочь сломить сопротивление. Он мысленно переносится то на север, то на юг – от Пиренеев к Висле и обратно, и не знает еще, в какую сторону придется ему направить войска, которые предоставит в его распоряжение новый рекрутский набор.
Читать дальше